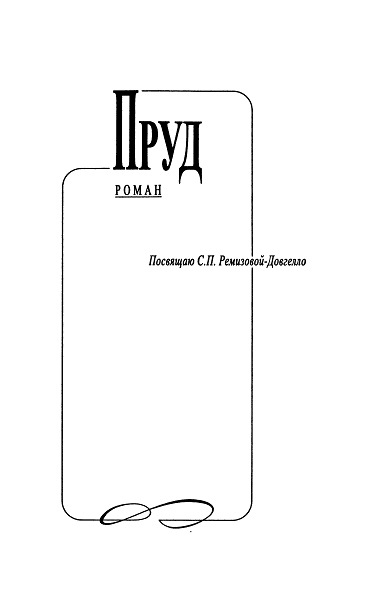
Комментарии
<история создания>
От Камушка до Чугунолитейного завода и от Колобовского сада до Синички тянется огромный двор, огороженный высоким, красным забором, часто утыканным изогнутыми, ржавыми костылями. К Синичке примыкает пруд, густо заросший со всех краев старыми ветлами, на конце которого шипит и трясется бумаго-прядильная фабрика с черной, закопченной трубой. За фабрикой, поверх оранжереи и цветника, выглядывает исподлобья неуклюжий белый домина – дом Б р а т ь е в О г о р е л ы ш е в ы х.
На противоположном конце пруда, на заднем дворе – красный флигель с мезонином.
А там, от красного флигеля до самого белого дома, вдоль двора фабричные корпуса – спальни, дрова и амбары.
Еще не померкла тень деда, Николая Огорелышева, и много темных историй ходит кругом, от Камушка до Чугунолитейного завода и от Колобовского сада до Синички.
Скрюченный, желтый кощей с лукаво-острыми глазками, помахивая своей зеленой бородой Черномора, наводил старик на всякого, с кем сталкивался, неимоверный ужас. Старики же крепко держались своего старшины, гордясь умом и упорством, с которыми вел кощей свою линию: Николай не выдаст!
В семейной жизни слыл Огорелышев столпом. Женился рано. Правда, без любви, женился только потому, что Ефросиния затворницей была, в монастырь идти собиралась:
31
![]()
красавица, с скитскою поволокой темных глубоких глаз подвижницы, с тонким разрезом губ сладостно-тихо улыбающейся мученицы. Скоро она надоела ему и принуждена была хорониться в детской, вынося смиренно жизнь свою.
– Ефросиния преподобная, угодница Божия, – приступал, бывало, старик, – на кухне там девочка стоит, зябленькая сироточка... Пригрей ты ее! – а сам трясется весь, губа ходуном ходит, отмачивается.
Крепкий был старик, девяносто лет на белом свете жил и пожил немало, – не смотри, что скрюченный! – и сделал для города много, дай Бог всякому столько сделать.
После смерти старика дело и капиталы перешли к сыновьям, из которых быстрее всех выдвинулся старший, Арсений. В городе открылся банк, на Кавказе – керосинное дело, в Средней Азии – хлопок, и везде во главе стоял Арсений.
Умирая, старик сказал сыну:
– Смотри, Арсений, не будет меня, запрячут тебя за язык твой!
Да, язык у Арсения свой был – такого не переспоришь, такой все на своем поставит.
И уж скоро оценили его, – Арсений не только в отца пошел, он отца обогнал и умом и деловитостью и предприимчивостью – и купечество выбрало его своим п р е д с е д а т е л е м.
С этих пор и началась его настоящая деятельность, а с нею пошла слава, которая увековечила имя Огорелышевых. Стал известен в самом высшем петербургском круге и пользовался полным доверием. Вся финансовая машина понемногу очутилась в его руках и он крепко держал ее. Он проводил и останавливал законы. Стал известен на всю Россию.
И этого маленького, юркого человека, отказавшегося от всяких чинов, слушались, ненавидели, льстили. Начинать борьбу с Арсением стало верным проигрышем. Все сильное и смышленое держало руку Огорелышева: Огорелышев был один, только один он с своим языком умел веско и крепко постоять за сословие. Русское купечество, вырас-
32
![]()
тавшее под его охраной, вправе было гордиться своим председателем.
– Достойный человек Арсений Николаевич! – говорили и враги и свои.
В детстве Арсения баловали: Ареньку к ранней обедне не будили. Ареньке покушать давалось самое лучшее.
– Икорку-то Ареньке оставьте! – ныла мать, Ефросиния п р е п о д о б н а я, перенесшая свои васильковые скитские слезы с Л у ч е з а р н о г о Ж е н и х а на любимого первенца.
Сгорбленный, с сведенными крючковатыми пальцами, заросший весь, нечесаный весь, Арсений не ходил по-людски, а как-то странно шмыгал, будто ноги были сами по себе, чем-то слабым, земным и ничтожным, за плечами же развевались тончайшие крылья, неутомимо рассекавшие воздух, несшие его по его воле.
– Антихрист, честнóе слово, – говаривали фабричные про своего хозяина, – и ходить-то путно не может, летает дьявол, сатана рогатая!
Правда, что-то зудело в воздухе, когда шел он, а серые глаза его кололи пронырливыми остриями, огорелышевские глаза непроницаемые, и, кажется, расцарапать способные всю душу.
Возиться с отцовской фабрикой Арсению не было времени, да и дело не такое было значительное, чтобы тратить ему свои большие силы, и все управление понемногу перешло в руки второго Огорелышева, Игнатия Николаевича.
Игнатий молодость свою прожил в Англии, знакомясь и изучая тамошние фабричные порядки. Красавец, теперь седой, с грустящею улыбкой, ничему не удивлявшийся, – таким должен быть под старость седой Д о н – Ж у а н, – оставался он холостяком, развлекаясь садоводством и благотворительностью. Управление фабрикой занимало так мало времени: все было налажено и с английской строгостью втиснуто в крепкую огорелышевскую оправу.
Третий Огорелышев Никита, – Ника, восхищавший весь город своею утонченностью и приятностью, рано женился на соседке – миллионерше Колобовой, числился
33
![]()
директором Колобовских фабрик и заводов и, в противоположность Арсению, дела никакого не делал, но всегда был занят.
Когда его о чем-нибудь просили, – из всех Огорелышевых только Нику можно было еще просить, – Ника капризно морщился и, изящно отмахиваясь выхоленными белыми руками, постоянно ссылался то на колобовских рабочих, которых будто бы то и дело усмирять приходилось, то на всесильного князя.
– Опять ехать усмирять этих негодяев, – говорил Ника, по-детски картавя, – потом на вечер к князю, ах, право, мне некогда.
Ника жил отдельно от братьев в Колобовском дворце, доставшемся ему за женою в приданое. И круг знакомых у Ники яе похож был на Огорелышевский: деловые люди к нему редко заглядывали, а терлась около него всякая знатная шантрапа – промотавшиеся аристократки, военные вертопрахи, ловкие адвокаты, у которых часто за душою оставалось всего-навсего одно святое имечко да легкий нрав.
Если Арсений устраивал русское купечество, вытягивая его из к у п ч и ш е к, которых смел безнаказанно лягнуть всякий барский холоп, то Ника, по его собственным словам, играл видную роль в слияния сословий. Но больше знали и больше ценили Нику за границей, где славился он покровителем парижских и лондонских тайных притонов.
Такие все трое разные: Арсений, Игнатий, Никита, и все трое похожие в одном, – всех их объединяла одна черта, выражавшаяся наиболее ярко в старшем Арсении. Огорелышевы умели улыбаться по-своему, по-огорелышевски: где-то в окаменевшей улыбке хоронилось затаенное желание взять что-нибудь, достать что-нибудь и не только потому, что нужно им для дела их или для безделья – для развлечения, а часто потому, что, казалось бы, попросту нельзя этого взять, нехорошо, грехом считается.
Единственная сестра Огорелышевых – Варенька. Варенька – младшая, двойник матери Ефросинии п р е п о д о б н о й, такая же, как мать, с скитскою поволокой тем-
34
![]()
ных глубоких глаз подвижницы, так же, как мать, с тонким разрезом губ сладостно-улыбающейся мученицы.
Варенька воспитывалась дома. Ходили учителя и немцы, французы и англичанка. Росла Варенька смышленая и пытливая, с огорелышевской закваской. Глядели за ней мало. Ходила Варенька по субботам ко всенощной в приходскую церковь к Покрову, вывозили ее на балы, в симфонические собрания, а Великим постом в итальянскую оперу. И все в кругу родственников, с родственниками, но были у ней и еще знакомства, о которых знала одна нянька.
Попался в дом такой учитель, познакомил Вареньку с студентами. Стали студенты ей книжки давать. Конечно, все тайно, как тайное, все, как самое запретное. Вареньке понравилось. Варенька собиралась в н а р о д идти...
Как-то в светлую звездную ночь у Огорелышевых необычайно засуетились, а потом жутко примолкли. Варенька сидела в кабинете Арсения, Арсений ее допрашивал: он метался, как ужаленный, топал ногами и, подбегая к столу, тыкал в сверток с книгами, листками и письмами, – все это сам он отобрал у Вареньки. Варенька молчала.
– Не скажешь? – как-то по-кошачьи, словно мяукал Арсений, – кто тебе дал? Кто? Не скажешь? – и вдруг, не раздвигая густых щетинистых бровей, улыбнулся своею огорелышевскою каменной улыбкой.
Нашла коса на камень. Кто разобьется: коса или камень?
Варенька молчала, белая, мертвела вся, а темные глаза заволакивались: темные, ничего не скажут они, закроются, захлопнутся – не жди, не будет ответа.
– Так пошла вон! – и взбесившийся голое Арсения разбился на тысячу режущих криков, рассек трепетавшее затишье и ожидание комнат белого дома.
Через неделю объявлена была Варенькина свадьба.
Почему Варенька на улицу не сбежала? Так бы, кажется, и бежать ей из дому без оглядки, бежать куда угодно, ну, к учителю тому, ну, к студентам своим революционерам, только в доме не оставаться больше, ни одной минуты – еще одна минута и пропадет все ее дело, сгинет вся
35
![]()
ее свобода, вся душа прихлопнется. Или уж петлю бы на шею да в петлю, чтобы сразу конец. Все бы тогда сразу кончилось без всяких терзаний и мук, и жалоб, и слез. Или была какая надежда? Да на что она могла надеяться? Будущего мужа своего она совсем не любила.
Накануне свадьбы поздним вечером Варенька вышла из дому. Торопилась она, не сказавшись, вышла, но у ворот повернула назад, пошла по двору, миновала фабрику, отворила калитку в сад, пошла по саду, прямо по снегу вокруг пруда, вышла на пруд и долго бродила по сугробам, подходила к проруби, заглядывала в черную дымящуюся прорубь и вернулась домой опять в белый дом.
Вернулась Варенька в свой белый дом, – никто ее ни о чем не спросил, и сама она ни с кем слова не сказала, молча прошла к себе в комнату. Села у стола без огня и сидела в темноте, жмурилась: кололо глаза – это слезы кололи глаза, не проливаясц, словно сжигались слезы где-то в самых глазах.
– Все сорвалось, – шептала она, – нет надежды и думать не о чем и ждать нечего, все сорвалось.
И вдруг улыбнулась она, как Арсений, каменной огорелышевской улыбкой, встала и твердо, не хоронясь, твердыми шагами спустилась в столовую. В столовой ни души не было. Она отворила буфет и выпила простой водки.
Как горячо ей по сердцу пошло, как горячо! И уж в кровати она заплакала, – никто ее не слышал, никому не услыхать было последних ее, отчаянных слез, – и плакала до безумия.
Стало светать, и чуть увидела она свет, живо, твердо поднялась на ноги.
Начался день ее свадьбы. Что будет дальше? Будет ли она счастлива?
– Боже мой, подкрепи меня! – шептала Варенька.
Свадьба прошла благополучно и невесело, но все, как заведено, по всем правилам. Только в начале беда – лошадь карету с Варенькой не повезла: дом Огорелышевых в котловине, к воротам – горка, как подниматься к воротам, лошади и стали, и пришлось Вареньке вылезать и в белом своем платье, в белых туфельках пешком идти.
36
![]()
– Не бывать барышне нашей счастья в замужестве, – охали по двору фабричные бабы, – лошадь не повезла.
И началась для Вареньки новая жизнь – будни с чужим у чужих в диком, облупляющемся Финогеновском доме, далеко от Синички и Камушка, на другом конце города за Большой рекой.
Елисей Финогенов старше Вареньки лет на двадцать, вдовец с кучей детей, любил он Вареньку, но пустым затеям ее не хотел потакать, не мог примириться.
– Пожили б вы, как я жил, погнули б хребты, не то бы заговорили, театры-то эти выбросили бы из головы, одни пустые траты, – ворчал Елисей вечерами, вернувшись из города из своих магазинов, и позевывал.
Жизнь Елисею выпала нелегкая. Нелегко ему было в люди пробиться. Изголодавшийся мужик – отец его, Степан Финогенов, привел в город своего Елеську, почерневшего и шелудивого от серой, деревенской нужды, и определил в лавку Толокова м а л ь ч и ш к о й.
Известно, мальчишка в лавке: наука немудреная, а мозги затрещат.
Елеська за кипятком бегал, тычка получал, ситцы таскал, да такие куски, большому не унесть, инда кровь носом хлестала. А выровнялся, подрос мальчишка и сметливым оказался, – наука впрок пошла. Хозяин без него и шагу не ступит: шустрый и угодливый, – и все с ним будто прибыльнее идет; и целый день копается, без дела не посидит, – и все с ним будто и порядка больше, счета какие-то выдумал, прибыльные. На пятнадцатом году произвели Елеську в приказчики. Прибаутчиком да насмешником прослыл Елисей и лихо на гармонье играл и с душою песни пел: голос нежный, так в душу и просится. Хозяйке, старухе Толоковой, очень Елисей за набожность свою по душе пришелся: как сын, души в нем старуха не чаяла. Скоро повысили Елисея в главные. Главным толоковским приказчиком сделался Елисей, и ведь из ничего, из простых мальчишек вышел, своим трудом. И теперь уж не Елеська, не Елесей, а Елисей Степанович Финогенов – так стали величать Елисея. Разъезжал Елисей по городам за товарами, бывал по хозяйскому делу и за границей, везде
37
![]()
присматривался. Пошли деньги и уважение. Чего еще? Да мало ли чего, – семьей обзавестись пора. Женился Елисей. А тут умирает Толоков и вся торговля переходит в руки Финогенова. Старуха Толокова сделала Елисея доверенным, и до самой смерти старухи служил Елисей у Толоковых доверенным. А умерла старуха, отошел он от Толоковых и свое дело открыл.
Толоковское дело кончилось, началось финогеновское.
Хаживал Елисей на биржу, понравился Арсению.
– Елисей – человек верный, – говорил Арсений про Финогенова, – без мыла куда хочешь влезет.
А Елисей овдовел и подумывал о новой семье: еще и не стар он, и дети на руках – порядок надобен.
Когда отдали за него Вареньку, он по положению своему поднимался все выше и выше, вровень с богатыми заречными купцами. И все было хорошо, одно мучило: дети не в отца пошли. Хоть и пристроил он сыновей по магазинам в своем же деле, да толку мало: нерасторопность какая-то, небрежность, да и погуливали. Дочь Людмилу замуж выдал, и тоже неудачно: зять ненадежный, того и гляди промотается.
Пять лет прожила Варенька с мужем в диком финогеновском доме. Никто у них не бывал, и они никуда не выезжали, кроме ярмарки в Нижний да к Огорелышевым в праздник.
Что за эти годы – за пять-то страдных лет вытерпела она, как рождались и умирали желания в ее изболевшем, покорившемся, но еще живом бунтующем сердце, как узнаешь? Никому ни полслова, да и себе, должно быть, ясно не сказала она, а то бы все по-другому стало: уж давно бы нашла выход.
Целыми днями молча ходила Варенька по высоким, нелюдимым чужим комнатам дикого финогеновского дома, а вечер придет, сядет в углу где-нибудь и сидит впотьмах.
В детской колыбельки поскрипывают, – там няньки, детей баюкают, в приказчичьей – гармонья чуть слышная, кажется, через пол идут звуки, ползут по полу и срываются, снуют вокруг в темноте такие надоедливые, не отмахнешься, ничем не заглушишь, на половине других детей –
38
![]()
пасынков, если дома они и гости у них, – там смех, вскрики, разговоры. Слушает Варенька и не помнит, когда так сама она разговаривала? А ведь она тоже когда-то разговаривала и беззаботно и весело, тогда – в праздник свой с теми студентами да и с подругами.
Зачем она покорилась? Во имя чего взяла на себя такой большой, такой тяжелый, такой непосильный крест? Мать ее – Ефросиния, проливавшая васильковые слезы свои перед Ж е н и х о м Л у ч е з а р н ы м, тоже покорилась и, покорная, несла крест свой безропотно ради своего первенца. И уж все могла вынести и до конца все вынесла. Но Варенька несла свой крест совсем по-другому, несла она крест не ради самого спасительного крестного бремени: вынесешь до конца, и земля потрясется и солнце померкнет и звезды попадают с неба, и уж новая другая земля ляжет под тобой, и другое новое солнце и другие новые звезды загорятся на новом небе. Крест ее подымался перед ней виселицей и силком, хотела она, не хотела, тащили ее к этой смертной виселице. Упиралась она, но ее пересиливали и кто-то подымал на воздух, закидывал петлю на шею, и петля душила ее, и молоток постукивал, – пригвождали ей руки, рвалась она, не вырвешься, – гвозди вонзались.
Сброситься бы ей вниз на землю с ее виселицы-креста, сбросить с себя тяжелый, ненужный, какой-то бесцельный, проклятый крест, уйти из этой финогеновской покорной жизни! Куда уйти? – Да куда глаза глядят, только вон из чужого дикого дома, сейчас же, сию минуту – еще одна минута и оборвется сердце, оставят ее последние силы, затянется петля, гвоздями пробьются руки, раздробятся кости и тогда уж поздно. – Уйти ей? Хорошо, уйдет она, а как же дети? У ней четыре сына, как же с детьми-то? Они еще маленькие? – И детей пусть бросит. Зачем они ей? Что ей с детьми? Любит она их? Пусть любит, но есть у нее и еще любовь и большая, чем к детям, важнее всякой материнской любви, любовь ее к своей покорившейся, но и еще живой, еще не прихлопнутой, еще бунтующей душе, которая покоя не находит себе, примириться не может, все мучается... Или в жертву принести себя хочет? Но жертва
39
![]()
только добровольная угодна, недобровольная же худшее из проклятий. Вот она сидит тут в комнате впотьмах, а там детей ее няньки нянчают, она одна сидит, не идет ведь в детскую и не может идти. И пусть совсем их бросит – и дом и детей, все позади оставит, Бог с ними. Проклянет ведь она их, свою жизнь проклянет и детей, проклянет вместе с домом, вместе с своею покорностью и крестом своим.
– Боже мой, подкрепи меня! – шептала Варенька.
Так проходили ее будни в финогеновском доме за Большой рекой.
Измучается она, истерзается вся, да обессиленная, тихая от грызущей тоски, пойдет к мужу.
Чуял ли он беду в ее порывистых и каких-то отчаянных ласках?
Елисей любил жену.
– Я с тобой, Варенька, – говорил он ей, – я люблю, тебя, дети есть у нас, наши дети! – вот и все.
Да чего же еще? Елисей любил ее, по-своему, конечно, но любил по всей правде, и все, что казалось ему нужным, все делал для нее: были у Вареньки и платья всякие и драгоценностей сколько угодно, и кроме добра он другого не хотел для нее.
Как-то и совсем по пустякам старший пасынок, Василий, что-то резкое, не так сказал мачехе, а, может быть, вовсе и не резкое, а ей так показалось тогда, только Варенька, не дожидаясь мужа, собрала детей и прямо на Камушек к братьям в белый Огорелышевский дом.
Веселая ночь была, звездная, шумно-весенняя.
В белом доме засуетились, как пять лет назад, на первые заморозки, а молчание наступило еще страшнее того. Варенька сидела в кабинете Арсения. Оба кричали... Нашла коса на камень. Кто разобьется, коса или камень? А вышли оба тихие, будто примиренные. Темные глаза Вареньки словно поседели. Арсений мертвецом смотрел, горло у него болело и шея была завязана белым платком, из-под платка вата торчала.
Арсений не выгнал Вареньку, Арсений уступил. Варенька не вернется в Финогеновский дом, Варенька останется жить у Огорелышевых, ей дадут угол.
40
![]()
Решение Огорелышева – закон, больше чем закон, и если он сам уступил, так и быть тому.
Очень огорчился Елисей, умолял Вареньку вернуться – позор-то какой: жена сбежала! – в ноги ей кланялся, – и разве он какой-нибудь пьянчужка или он истязал ее, как ему теперь в городе-то показаться и на ярмарке в Нижнем? – но так и уехал ни с чем. И забывшись, в огорчении своем попробовал было с Арсением поговорить, да лучше бы и не начинать. Елисея вызвали к князю и князь с места пригрозил выслать его из города в двадцать четыре часа, если он хоть что-нибудь предпримет к законному возвращению жены. Елисей перекрестился и подписал развод.
Лето прожила Варенька с детьми на даче, а к зиме в красный флигель переехала, на огорелышевский задний двор. Огорелышевы положили выдавать ей на жизнь небольшую часть процентов с ее приданого, а приданое в дело отобрали.
Решиться так круто разорвать с мужем, уйти из финогеновского дома, решиться вернуться к Огорелышевым, остаться у Огорелышевых – это на такую высоту броситься, где дух захватывает. И вот все кончено. И после всех своих дел Варенька сразу затихла, словно там, в душе ее с ее желаниями, в этой пучине извивающихся простертых рук, оборвалось что-то, смешалось и кануло. Остались жалобы, жалобой переполнилось все ее сердце, а на месте воли открылись больные жалкие слезы – жалобный плач.
Фабричный огорелышевский свисток да колокольный звон в Боголюбовом монастыре, возвышавшемся за пустырем – огородами над Синичкой, сторожили ее тягучую, какую-то проклятую жизнь.
Изредка ходила Варенька в гости, еще реже ездила в театр и больше всего оставалась одна в своей комнате, выходившей в красный забор.
Арсений и Игнатий заходили к сестре только в ее именины, а Ника за недосугом коробку конфет присылал, самых дорогих конфет и таких вкусных – по особому заказу.
Гостей у Вареньки не бывало, кроме забегавшей Пала-
41
![]()
геи Семеновны Красавиной, дальней родственницы ее и старой приятельницы.
Елисей Степанович приезжал к Вареньке каждое воскресенье обедать. И всегда к обеду была лапша и черная каша – любимые кушанья Финогенова. После обеда финогеновский кучер Гаврила катал детей с нянькой по городу, пили чай, но уже в самом начале вечера Елисей уезжал к себе за реку.
Пять лет, не пропуская ни одного воскресенья, приезжал Елисей в красный огорелышевский флигель. Детям нравилось кататься по городу и они ждали воскресенья. Младшему Коле наступал шестой год, когда умер отец. Елисей умер, прохворав весь пост и Пасху: на масленице простудился, сделалось воспаление легких, не выдержало сердце – конец. По духовному завещанию всем детям отказан был большой капитал, но еще больший капитал завещал Елисей на колокол в село, откуда привел его когда-то отец его Степан Финогенов, такой колокол отлить, чтобы, как ударят ко всенощной, от села до самой Москвы хватало. Опекунами назначены были Варенька и приятель Елисея Холостов. Холостов оказался человек ловкий и прожога. Говорили, что, если бы вступился сам Огорелышев, можно было бы, устранив Холосгова, еще спасти дело. Но Арсения, как видно, не занимали финогеновские капиталы, и даже чудодейственный колокол, мысль о котором очень понравилась Огорелышеву, все-таки не тронул его. Дело с наследством затягивалось, деньги куда-то тратились. И выходило так, что дело пропащее: ни капитала не будет, ни колокола. Да так оно и вышло.
Когда дети чуть подросли, открылась перед ними улица – фабричный двор с его острой борьбой за нищенскую жизнь, с безобразным разгулом и смертью увечной и беспощадною.
Фабричные любили Вареньку, а по ней и детям ее честь шла. И дети не чуждались фабричных. Их тянула та ласковость, с которой обходились с ними все эти простые люди. Они бегали в сторожку, в каморки, в будку и там пили фабричный чай, жиденький вприкуску, и ели картошку и тюрю с мелко накрошенным луком и солдатский черный
42
![]()
хлеб: кислый, верхняя корочка плесенью покрыта – очень вкусный. Фабричные ребятишки и подростки водились с ними: дрались и играли, рассказывали о пинках и оплеухах, и как их штрафуют и порют.
Финогеновы называли своих дядей по-фабричному х о з я е в а, и повторяли фабричные прозвища: Арсений – а н т и х р и с т, Игнатий – з м е я, Никита – с к у с н ы й, стариков же фабричных, всех этих Никифоров, Демьянов, Иванов, величали дяденьками и дедушками.
Их было четверо сынов, четыре мальчика Финогеновых: Саша, Петя, Женя, Коля, – все погодки. О г о р е л ы ш е в ц ы – под такой кличкой скоро стали известны они за свое беспримерное озорство и озорная слава шла о них по городу.
43
![]()
| Главная | Содержание | Далее |
ПРУД
Роман
Впервые опубликован: Вопросы жизни. 1905. № 4/5–11.
Прижизненные издания: СПб.: Сириус, 1908; Шиповник 4, 1911; Сирин 4, 1912.
Рукописные источники: Беловой автограф I ред. (отрывки), 1908 – РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 92; Наборная рукопись III ред., 1902–1903, 1911 – РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 5; Наборная рукопись Четвертой ред., 1923, 1925 – Собр. Резниковых.
В настоящем издании представлены две печатные редакции романа «Пруд»: в основном разделе – Третья редакция (Шиповник 4, 1911) и Вторая редакция (Сириус, 1908). Текст Третьей редакции сверен с Наборной рукописью РНБ. В «Приложении» помещено авторское предисловие к Четвертой редакции романа (1923,1925, Собр. Резниковых).
Роман «Пруд» написан Ремизовым в годы его вологодской ссылки (1901–1903) и имел первоначальное название «Огорелышевское отродье» – см. свидетельство автора в письме жене 19 июня 1903 г.: «Отделывал "Пруд", назывался по-другому: «Огорелышевское отродье» (На вечерней заре 1. С. 171). Во время пребывания Ремизова в июле 1903 г. в Херсоне роман получил новое, окончательное название и подвергся существенной переработке. «Отделывал "Пруд", написанный в Вологде», – писал он жене 6 июля 1903 г. (Там же, с. 182). Причиной тому была надежда Ремизова на публикацию его в журнале «Новый путь». Редакция журнала в лице З. Н. Гиппиус отвергла роман «за декадентство» (см. об этом: На вечерней заре 2. С. 243, 251). Вслед за этим Ремизов предпринял еще одну переработку произведения – в 1904 г. (см. там же, с. 246, 247), параллельно пытаясь пристроить его в какое-нибудь модернистское издательство. Эти усилия остались безрезультатными и только в начале 1905 г. Ремизов получил, наконец, согласие издателя «Вопросов жизни» (обновленного «Нового пути») Д. Е. Жуковского на публикацию романа в журнале (см.: На вечерней заре 3. С. 450). Не последнюю роль при этом сыграли ходатайства заведующего литературным отделом «Вопросов жизни» Г. И. Чулкова, одного из редакторов журнала Н. А. Бердяева и публициста Волжского (А. С. Глинки). Условием публикации было сокращение текста и внесение в него
525
_______________________________________
ряда исправлений (см.: На вечерней заре 2. С. 283). Это было сделано автором, причем некоторые исправления вносились уже в ходе публикации (см.: На вечерней заре 3. С. 448, 450, 453, 459). Первая печатная редакция «Пруда» была опубликована в журнале «Вопросы жизни» (1905, № 4/5–11). Рукописей вологодского периода и первой печатной редакции «Пруда» не сохранилось. По свидетельству Ремизова, его окружение в лице Льва Шестова, С. В. Лурье, В. В. Розанова, С. П. Дягилева, К. А. Сомова, Л. С. Бакста, А. А. Блока и др. с одобрением приняло его первое крупное произведение (см.: Встречи. С. 46) и тем самым стимулировало поиски издателя для выпуска романа отдельной книгой. Она вышла при помощи С. К. Маковского в издательстве «Сириус» (предысторию издания см.: Встречи. С. 74–75), однако не в 1908 г., как не раз указывал сам Ремизов (см., например: Р е м и з о в А. М. Неизданный «Мерлог» / Публ. Антонеллы Д'Амелиа // Минувшее: Истор. альманах. Вып. 3. М., 1991. С. 227) и как значилось на титульном листе издания, а в ноябре 1907 г. В этом издании Ремизов вернулся к своим вологодским рукописям, и текст 1907 г. представляет уже Вторую печатную редакцию произведения. В РГАЛИ сохранился автограф отрывков из романа, датированный 1908 г.
В апреле–июне 1911 г. Ремизов находился в Париже, где предпринял для издававшегося петербургским издательством «Шиповник» собрания «Сочинений Алексея Ремизова» в 7 томах еще одну значительную стилевую переработку текста романа, создав Третью редакцию. Наборная рукопись Третьей редакции «Пруда» в РНБ представляет собой печатный текст издания «Сириуса» со значительной авторской правкой. На титульном листе штамп: «Из архива Иванова-Разумника № 78». На л. 1 рукописное заглавие и пометы: «Алексей Ремизов. Пруд 2-е изд. 1902–1903 <написано> 1911. Париж. I ред<акция> 1905 г. Вопр<осы> Жизн<и> II ред<акция> 1908 изд<ательство> Сириус III [редакция] – 1912 изд<ательство> Шиповник – Сирин». В конце текста романа поставлена дата-автограф: «1902–1903 1911 г. Париж». Сам Ремизов так определил смысловую направленность стилистической переработки текста: «А что если попробовать странный и непонятный «Пруд» изложить своими словами?» (Р е м и з о в А. М. Неизданный «Мерлог». С.227). В конце сентября – начале октября 1911 г. переработанный «Пруд» вышел в составе четвертого тома «Сочинений» под маркой «Шиповника». Чуть позже издательство «Сирин» перекупило у «Шиповника» права на ремизовские произведения и «Пруд» в той же Третьей редакции был издан в четвертом томе сириновского издания собрания «Сочинений» А. Ремизова.
Письмо Ремизова Д. В. Философову от 5 декабря 1919 г. свидетельствует о наметившейся возможности переиздания романа 3. И. Гржебиным и о его новой переработке. Ремизов писал:
«Дорогой Дмитрий Владимирович расскажу Вам историю «Пруда» моего – помню, Вы первый откликнулись на него.
«Пруд» написан за зиму 1902–1903 г. в Вологде. Читал я его в первый раз у Агге Маделунга, были слушатели:
526
_______________________________________
Б. В. Савенков <sic!> С Верой Глебовной, ур<ожденной> Успенской, С. П. Довгелло, Ив. Пл. Каляев, П. Е. Щеголев, В. А. Жданов.
Напечатан был Пруд в «Вопросах Жизни» в 1905 г. – это первая редакция, а до того времени – два года – ходил он по белому свету, был и у Куприна и у Аничкова под глазом П. Е. Щеголева.
Много было гонителей и хулителей на эту книгу и долго издателя я не мог найти (были и читатели верные – очень немного – и все-таки были: Варвара Димитриевна Розанова, по ее собственному признанию[,] 5 раз <sic!> прочла), в 1908 г. издал Пруд «Сириус» (С. Н. Тройницкий, А. А. Трубников) – это вторая редакция.
А третья редакция перед Вами для Шиповника.
В Париже начата, а конец в Женеве. И правой и левой рукой. Принял о ту пору огненную муку – синяя висела у меня рука, как хвост. От ушиба – снился мне сон Иакова – поднялся я с болью и семь дней и семь ночей, свету не видя, мучился.
Вот три редакции, сейчас Пруд у 3. И. Гржебина. Не хотелось бы мне перепечатывать в 3-ей ред<акции>, а еще раз редактировать времени нет:
«Культ мускулов!
а во мне чуть душа держится –
времени и нет» (РНБ. Ф. 481. Ед. хр. 197. Лл. 5–5 об.).Ни переработка, ни переиздание «Пруда» в 1920 г. не были осуществлены. Однако мысль о них не оставляла Ремизова. Хранящаяся в парижском собрании Резниковых Четвертая редакция романа, которая, по существу, является конволютом Второй (1907 г.) и Третьей (1911 г.) редакций с многочисленными авторскими вставками, свидетельствует о возврате к стилевой манере печатном редакции 1907 г. при сохранении принципов ремизовской монтажной прозы середины 1920-х гг. (см.: Р е м и з о в А. М. Неизданный «Мерлог». С. 228). Рукопись помечена датами: «22.10.23 – 1925», что позволяет предположить, что первоначально переработанный текст предназначался для одного из многочисленных книгоиздательств «Русского Берлина» и только затем, в силу невыясненных обстоятельств, был переадресован Ремизовым пражскому издательству «Пламя» по просьбе Е. А. Ляцкого. Однако и на этот раз ремизовские надежды не оправдались: переработанный «Пруд» так никогда и не был издан. Вступление к роману в переработанном виде опубликовано в журнале «Воля России» (1926. Кн. 8–9. С. 230–232), а затем включено в кн. «Мерлог».
По свидетельству Н. В. Резниковой, незадолго перед смертью Ремизов вновь вернулся к правке и переделке своего первого романа, однако довольно скоро прекратил работу, придя к «мысли, что этого не стоит делать: надо оставлять произведения в их первоначальном виде» (Р е з н и к о в а Н. В. Огненная память: Воспоминания о Алексее Ремизове. Berkeley, 1980. С. 142).
Таким образом, имеется три печатных редакции ремизовского «Пруда». Восприятие их современниками было различно: печатные отзывы о них зачастую не совпадали с откликами, высказанными письменно и устно. Редакция 1905 г. в
_______________________________________
этом отношении особенно показательна. Печатные отклики на журнальную публикацию романа были в большинстве своем негативными: и критики традиционного направления, и их собратья из модернистского лагеря оказались едины в неприятии ремизовского произведения.
Так, известный отрицанием всего нового в искусстве нововременский присяжный критик В. П. Буренин в своем уничтожающем отзыве о «Пруде» даже отказался назвать имя автора романа, – «из жалости к нему: к чему оглашать имена очевидно помешанных, несчастных пациентов современных бедламов, называющихся ежемесячными литературно-общественными органами?» (Б у р е н и н В. П. Критические очерки: Разговор со старым читателем // Новое время. 1906. № 10723. 20 янв. (2 февр). С. 4). Об истории появления этого отклика см.: Встречи. С. 46–47.
Столь же бесцеремонной по тону была реакция провинциального критика Е. Бондаренко, писавшего: «...вычурностью отличается роман г. Ремизова – «Пруд». Автор пытается дать характеристику разлагающейся богатой купеческой семье, а вместо ее дает ряд страниц символико-декадентского косноязычия к заикания. <...> Проглотив два, три десятка таких страниц, вы чувствуете рези в желудке и шум в голове, словно по ней колотили кузнечными молотками. <...> После такой операции у вас надолго пропадает охота читать произведения символистов и юродствующих российских декадентов» (Б о н д а р е н к о Е. А. Журнальное обозрение. «Русская мысль» – апрель и май. «Вестник Европы», «Мир Божий» и «Вопросы жизни» – май // Каспий. Баку, 1905. № 121. 25 июня. с. 2). Даже в том случае, когда рецензенты демонстрировали в целом доброжелательное и заинтересованное отношение к ремизовскому роману, их суждения о нем отличались поверхностностью и определялись более соображениями внелитературного характера. Так, например, рецензент «передового» журнала политико-общественной сатиры «Зритель» заявлял: «Наша "господская" литература очень бедна описаниями монашеской жизни. Потому тем интереснее ознакомиться с романом г. Алексея Ремезова <sic!>, печатающегося в журнале "Вопросы жизни". Роман этот, под заглавием "Пруд", только что начался, подробный отчет его мы дадим по окончании, а теперь только коснемся изображения автором некоторых черт монашеской жизни. Отличительная черта дарования г. Ремезова – это откровенность. Он не окутывает жизнь туманным флером, а беспощадной рукой безбоязненно срывает все ее покровы. Его кисть рисует жизнь во всей ее омерзительной наготе, со всей грязью, смрадом, пороками, гноящимися и смердящими ранами. В июньской книжке описывается известный Андрониев (так и назван Андрониев!) монастырь» (П и с а к а. Из журналов // Зритель. СПб., 1905. № 4. 25 июня. С. 11). В этой связи Ремизов высказал недовольство стремлением рецензента причислить его к лагерю «обличителей реалистов» (см.: Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым / Вступ. заметка, подгот. текста и примеч. И. Ф. Даниловой и А. А. Данилевского // Рус. литература. 1992. № 2. С. 149).
В свою очередь, Л. Д. Зиновьева-Аннибал, весьма расположенная к самому Ремизову и его творчеству, поставила «Пруд» вне искусства, отказав автору в
_______________________________________
умении справиться с формой романа (см.: А н н и б а л Л. А. Ремизов. Пруд. Роман // Весы. М., 1905. № 9/10. С. 85–86). В своем недатированном письме писателю, написанном несколько позднее, она следующим образом проясняла свое отношение к его роману: «Но, дорогой мой Алексей Михайлович, искристый, истинный талант мною почитаемый и с болью любимый, я решусь честно и прямо сказать свое мнение, в объективной истине которого совершенно не уверена. Часы <второй ремизовский роман. – Ред.> как и Пруд не искусство. Быть может они ценны, даже совершенно наверное, но не в <1 нрзб.> Искусства. Это другое, еще небывалое, – эти <1 нрзб.> червяки которые вы <1 нрзб.> глодать сердца людей, и эти вопиящие <слепящие?> молитвы, которые извергаются со скрюченными пальцами, перекошенными губами, и злыми и скупыми слезами.
Но все что от искусства для художника ограничено незыблемою гранью и закованное в броню, как бы незаметна эта броня не была для читателя. У вас нет брони. Нет грани. Все что от искусства несет в себе какую-то сферу разряженную <1 нрзб.> электричество. У вас текут какие-то светящиеся зеленым, бледным фосфорическим светом линии все по одному направлению дрожа и зыблясь и прерываясь, но никогда не встречаясь во взрыве и огне. Вот ваши черты слабые, не правильно даже делающие и бессильные...» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 4–5; сохранена орфография и пунктуация оригинала).
Крайне негативно воспринял «Пруд» А. М. Горький. В июне 1905 г., в надежде на публикацию романа в издательстве «Знание», Ремизов послал Горькому его первые главы, напечатанные в «Вопросах жизни». В ответ Горький писал: «Ваш "Пруд" – как Ваш почерк – нечто искусственное, вычурное и манерное. Порою – прямо противно читать – так грубо, нездорово, уродливо и – намеренно уродливо, вот что хуже всего. А Вы, видимо, талантливый человек, и, право, жаль, что входите в литературу, точно в цирк – с фокусами, – а не как на трибуну – с упреком, местью...» (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 28. С. 277). 30 января 1906 г., уже после личного знакомства с Горьким (происшедшего 3 января того же года), Ремизов писал ему: «Рад был, что увидел Вас и послушал. Посылаю оттиски "Пруда". Писал его не кривляясь, а задохнувшись. Это меня тогда так укололо в Вашем письме. Многие неясности не по моей вине: много мест внутренняя цензура повычеркивала» (К р ю к о в а А. А. М. Горький и А. М. Ремизов (Переписка и вокруг нее) // Вопросы литературы. 1987. № 8. С. 204). Об отзыве другого «властителя умов и сердец» начала 1900-х гг. – Л. Н. Андреева – узнаем из письма Ремизова жене от 8 июля 1905 г.: «Леонид Андреев, передает Чулков, заметил, что форма "Пруда" не по "роману". Большие по размеру произведения, как роман, нельзя так "ускоренно" писать. Его возмутила "лиричность". Конечно, "плавности повествования" в "Пруде" нет, да и не гнался за ней. Д. Е. Жуковский соглашается с Леонидом Андреевым и как доказательство "ускоренное" видит в том, что "прочтя главу, ничего не помнишь"» (На вечерней заре 3. С. 465).
_______________________________________
Другие немногочисленные устные и письменные отзывы о романе скорее радовали начинающего писателя. На много лет запомнилось Ремизову письмо Д. В. Философова от 7 мая 1904 г. с подробным разбором 1-й части романа. Философов писал: «Прочел первую часть Вашего романа, и очень им заинтересовался. Слышал, что Перцов <редактор-издатель "Нового пути". – Ред.> Вам его вернул. Я бы его напечатал, и если мне пришлось бы стать официальным редактором Нов<ого> Пути, я бы так или иначе его провел. В романе Вашем много пренебрежения пластикой, много нарочитого декадентства, которое, конечно, редакции пришлось <бы> при напечатании исправлять. Но именно это несовершенство меня прельщает, потому что оно свидетельствует о процессе, а не об академическом завершении, <...> Первая часть Вашего романа – кошмар жизни, из которого другого выхода, как религиозного, быть не может. Иначе безумие. Первая часть глубоко анархистична. Анархизм теоретический – преддверие религии. Здесь роль декадентства. Социалисты этого не понимают. Они никогда не избегнут упрека человека из подполья, который покажет им кукиш. Надо преодолеть, оформить хаос самодовлеющих индивидуалистов, а не стадо реформируемого человечества, т. е. какого-то choir à canon прогресса. Как Вы решаете этот вопрос в Вашем романе – меня страшно интересует, и я убедительно прошу Вас, будет возможно, прислать мне вторую часть, просто как знакомому» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 249. Л. 63).
«Пруд» вызвал понимание и живейшую поддержку со стороны друга-единомышленника и постоянного корреспондента Ремизова философа Л. И. Шестова. Известны его многочисленные отзывы в письмах 1905 г., например, следующее: «О продолжении романа скажу, что по-прежнему доволен. Все больше и больше убеждаюсь, что есть у тебя свое дарование художественное. Правда, есть и недостатки – особенно технические. Но они меня скорее радуют, чем огорчают. Каждый раз, когда писатель хочет быть совсем собой, он принужден жертвовать кой-чем» (Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым // Рус. литература. 1992. № 2. С. 151; см. также с. 144, 146, 155 и др.). Нельзя не отметить также позитивное упоминание «Пруда» и его автора в шестовском обзоре первых шести номеров «Вопросов жизни» (см.: Ш е с т о в Л. Литературный Сецессион. «Вопросы жизни», январь-июнь // Наша жизнь. 1905. № 160. 15 (28) июля. С. 3). Из письма Шестова от 18 (31) августа 1905 г. известно о реакции, вызванной чтением ремизовского романа у его близкого друга С. Г. Балаховской-Пети: «...Софья Григорьевна – в восторге. Говорит, что в твоем лице Россия будет иметь еще одного большого писателя» (Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым. № 2. С. 153). Заинтересовался «Прудом» философ-интуитивист Н. О. Лосский. В письме от 30 июня 1905 г. он сообщал Ремизову: «Читаю Ваш "Пруд". Огорелышевцы – "истинно-русские люди"; меня интересует, в каких именно городах России можно видеть их живьем. Читая Вашу вещь, ясно чувствуешь, что русская жизнь – вместилище величайших противоположностей, совсем еще сплавленных в одно целое, так что не разберешь, где божие, где чертово. <...> Теряюсь в догадках,
_______________________________________
как назвать Вашу школу по манере письма» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 140). Роман не оставил равнодушным и Андрея Белого, сообщавшего в письме Ремизову от 10 января 1906 г.: "Пруд" внимательно читаю на досуге, и сердцу близко, очень близко. Простите за прежнее невнимательное отношение: местами сильно пронимает. При случае хочу непременно печатать, сказать что-нибудь хорошее о "Пруде"» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 3).
Печатная редакция романа 1907 г. не вызвала значительного отклика со стороны рецензентов. Причину столь «бедного» его восприятия А. Шейн усматривает в том, что роман радикально расходился со стандартами современной беллетристики в отношении развития сюжета, а его крайне фрагментарная структура и изобилие в нем низких, макаберных и аморальных поступков создавали определенные трудности для восприятия (см.: S h a n e. Alex. М. Remisov's Prud: From Symbolism to Neo-Realism // California Slavic Studies, 1971, vol. VI, p. 72–73).
А. А. Блок еще 28 мая 1905 г. писал Ремизову, что его сковал страх, когда он прочитал «Пруд», а позже, в письме от 31 октября 1908 г. признавался, что после «Пруда» не мог читать Ремизова «года два» (см.: Б л о к А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л. 1962. Т. 8. С. 126, 257). В статье-обзоре «Литературные итоги 1907 года» (Золотое руно. М, 1907. № 11/12) Блок охарактеризовал ромаи как текст неудовлетворительный с точки зрения плана содержания, – как вещь с трудом поддающуюся прочтению, «тяжелую, угарную и мучительную», производящую «громоздкое впечатление» (Б л о к А. А. Собр. соч.: В 8 т. М; Л., 1962. Т. 5. С. 226–227). Все эти недостатки Блок объяснял ремизовской зависимостью от творчества польского писателя-декадента С.П шибышевского, который, по его словам, «очень властной рукой подал знак к падению многим русским утонченникам из новых» (Там же. С. 227).
С позиций неудовлетворенности планом выражения критиковал новую редакцию романа Андрей Белый. Приветствуя в целом «первую значительную работу» Ремизова, Белый тем не менее выразил свое неприятие ремизовских стилевых и композиционных новаций: «Не нравится "Пруд". <...> Вся беда в том, что 284 страницы большого формата расшил Ремизов бисерными узорами малого формата: это тончайшие переживания души (сны, размышления, молитвы) и тончайшие описания природы. Схвачена жизнь быта. Но охватить целого нет возможности... <...> Пока читаешь, забываешь действующих лиц, забываешь фабулу. Рисунка нет в романе Ремизова: и крупные штрихи, и детали расписаны акварельными полутонами. <...> Преталантливая путаница...» (А н д р е й Б е л ы й. Арабески. М., 1911. С. 475–476).
Весьма сходное впечатление вызвал «Пруд» у литературного критика социал-демократической ориентации В. П. Кранихфельда: «Пруд» <...> находится вне искусства. <...> Это был хаос, в котором не было лица, не было ни рисунка, ни даже линий» (К р а н и х ф е л ь д В. Литературные отклики // Современный мир. 1910. № 11. Отд. II. С. 97).
С мнением Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, В. П. Кранихфельда и отчасти Белого
_______________________________________
о внеэстетической природе «Пруда» был согласен киевский ультрадекадентский критик и публицист Л. К. Закржевский. Однако в отличие от них он усматривал в этом главное достоинство ремизовского романа. В характерной для него экзальтированной манере Закржевский заявлял в своей книге о Достоевском и современных писателях: «Не должно, да и нельзя "ч и т а т ь" "Пруд", его можно только переживать и, переживая, любить или ненавидеть. Здесь талант, глубокий талант, несмотря на его слишком тесную зависимость от Достоевского, перерос традиции искусства, вследствие чего то, что должно было стать искусством, не сделалось им, а стало чем-то иным, может быть большим и гораздо важнейшим, чем искусство, стало воплем прокаженного сердца, стало второю жизнью, стало исступленно-безумным и бесстыдно-интимным письмом к кому-то далекому, святому, всесильному, единственному. <...> после "Пруда" он, как будто желая извиниться перед публикой, стал уже писать не для себя, а для нее, стал писать утомительно скучные и ненужные книги, пахнущие мертвечиной и поддельной бойкостью, и все эти "Посолони", "Лимонари", все эти старые погудки на новый лад, все это паясничанье и подделывание под "детскость", вся эта эстетическая чепуха совершенно стерла с литературной книги истинного Ремизова, того, что в "Пруде",того глубокого и серьезного, что – в подполье» (З а к р ж е в с к и й А. Подполье: Психологические параллели. Киев, 1911. С. 72–73).
Третья редакция романа (1911 г.) опять-таки не вызвала заметной реакции со стороны критиков, лишь М. А. Кузмин в своей рецензии указал: «О новом издании "Пруда" Ремизова можно говорить как о новом произведении» до такой степени он переработан» (К у з м и н М. Сочинения А. Ремизова, т. 4. Роман «Пруд» // Аполлон < 1911. № 9. С. 74), а затем, противопоставив две части романа друг другу, заявил, что «всю первую часть "Пруда" можно причислить не только к лучшим страницам Ремизова, но и к наиболее примечательным произведениям русской современной прозы» (Там же). Зато роман получил одобрение со стороны литераторов, о чем свидетельствуют многочисленные эпистолярные отзывы. Л. И. Шестов в письме от 28 октября 1911 г. так выразил свои впечатления: «...новый, исправленный "Пруд" почти неузнаваем. Из первых трех четвертей тебе удалось вытравить весь тот балласт лирики, который отягчал его в первом издании. К сожалению, последние 100 страниц сохранили слишком явные следы прежней твоей, юношеской, манеры. И это очень жаль, т. к., по-моему, если бы тебе удалось довести переделку до конца, "Пруд" был бы лучшим из твоих больших произведений. Лучше даже "Крестовых Сестер" Когда я читал первые части, мне начинало казаться, что тебе удастся в повестях и романах дойти до того мастерства, до которого ты дошел в своих "миниатюрах" (Посолонь, Сны, Лимонарь). Это меня чрезвычайно порадовало, т. к. я никак не мог думать, чтоб одному человеку могли удастся два столь противоположных рода литературного творчества. Мне хочется надеяться, что ты "Пруда" не покинешь и в 3-ем издании переработаешь последние 100 страниц так же, как и переработал во 2-м первые 300. И тогда "Пруд", в который ты и без того вложил, по-видимому, очень много сил – ведь "Пруд" не просто рассказ, <...> – "Пруд" –
_______________________________________
быль, вырванный кусок из истории человеческой, и близко тебе знакомой жизни – и потому, по-моему, над ним ты можешь и должен дальше работать. Не нужно, по-моему, взваливать на Николая так много преступлений. Еще может быть, что Таня из-за него покончила с собой. Но Арсения он не убил. И его кошмары должны больше забиваться вовнутрь – а не проявляться наружу. И умирать ему не следует под копытами лошадей. Ему нужно еще долго походить по свету и даже может проявить ценные, – для всех ценные – дарования. Очень мне хочется, чтоб "Пруд" еще подвергся переработке. Раз ты можешь перерабатывать – не бросай его, из "Пруда" может вырасти совсем большая вещь. И даже в теперешнем, еще не законченном виде он очень и очень хорош» (Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым. № 4. С. 105).
А. К. Закржевский в письме к Ремизову от 12 ноября 1911 г. вновь подтвердил свое исключительное отношение к «Пруду»: «Большое спасибо Вам за "Пруд". Наконец-то дождался я его! Опять перечитываю с тем же чувством и с теми же мыслями, что и шесть лет назад в «Вопросах Жизни»!.. И вспоминаю себя и свое отношение к Вам, которое было тогда!. Это невозможно сказать, потому что немного смешно (теперь)! Мне тогда казалось, я был убежден, что Вы такой, как «Пруд»! И страшно хотелось с Вами познакомиться... <...> С каким трепетом, с каким благоговением ожидал я каждой книжки "В <опросов> Ж<изни>", и дух захватывало, когда читал!.. Что-то непередаваемое творилось со мной... О "Пруде" я ведь мечтал почти с детства... Знал: такая книга должна появиться, и будет она как палящий вихрь над "литературностью"! Что-то огромное, необъяснимое, страшное до ужаса открылось мне в "Пруде". Словно почувствовал новоявленную душу страданья, того страданья, о котором еще никто не говорил доселе, страданья выше сил и выше жизни, и открывающего перед глазами такие горизонты и такие миры, что жутко смотреть! Вы м<ожет> б<ыть> и сами знаете, что Вы вложили в эту вещь! И было сказочно, все это казалось мне чудом, потому что невозможное свершилось в жизни, из того, что зовут книгою, воскресла обнаженная, окровавленная, надрывающаяся душа! Так никто не писал (разве "Апофеоз <беспочвенности>" Шестова, но этого он не понимает или не хочет понимать, он говорит, что не любит "Пруд" за то, что "человек распустился", а раз говорит это, значит не понимает), – мало того – так и невозможно писать, будучи тем, что зовется литератором, так можно писать только один раз в жизни!
Все остальное, в конечном счете – ремесло! И у писателя (каждого) есть одна только книга, в которой – все, книга его жизни. У Вас такая книга – "Пруд". У меня к нему особенная любовь...» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 107. Л. 5–6). С. В. Лурье, публицист и философ, человек из ближайшего окружения Л. И. Шестова, писал в недатированном письме 1911 г. Ремизову: «...на два дня сбежал из Москвы в деревню <...> и захватил с собою "Пруд". Читал с большим интересом. Написан он, по-моему, неровно: есть места очень сильные, есть слабые, но то, что придает ему особый интерес, – это автобиографическая, т. е. подлинность, которая чувствуется больше всего в местах сильных. Я далек от
_______________________________________
от того, чтобы причислить "Пруд" к лучшим Вашим вещам, но хотел бы очень. поговорить с Вами о многом, что там выплывает: и о своеобразном живом, рождающемся из гнили разложения, и о разлагающемся и упорно неумирающем...» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 142. Л. 6).
Отзыв писателя и поэта Б. А. Садовского был исключительно комплиментарен, – он писал Ремизову 9 ноября 1911 г.: «Позвольте поблагодарить Вас за "Пруд", который я получил и уже прочитал до половины. Он разнится от первой редакции настолько, что кажется совсем новым произведением. Получилось два "Пруда". Многих мест, упраздненных Вами теперь, мне искренне жаль, и я чувствую, что без них мне никак не обойтись. Это, конечно, происходит оттого, что я старый Ваш читатель и знаю "Пруд" еще по "Вопросам Жизни". Дети наши начнут с теперешнего, более совершенного, "Пруда"» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 1). Приведем также отзыв М. М. Пришвина, сообщавшего Ремизову в письме от 28 октября 1911 г.: «Большое спасибо за "Пруд". Прочел я его и, к своему удивлению, вовсе не нашел таким таинственно непонятным, как привык считать его, слушая разговоры Ваших читателей» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 175. Л. 22).
С. 31. неуклюжий белый домина ∞ спальни, дрова и амбары. – В изображении двора и дома Огорелышевых отразились местонахождение, расположение и внешний вид усадьбы Найденовых – именитой московской) купеческой семьи, из которой вышла мать Ремизова; в этой усадьбе прошло детство писателя, – ср.: «... на второй год моей жизни мать переехала со всеми детьми на Земляной вал, к Высокому мосту, под опеку к своим братьям: ее поместили на заднем дворе, выходящем к Полуярославскому мосту, в Сыромятниках, в отдельном флигеле, где когда-то была красильня-набивная моего прадеда, <...> по соседству с фабричными "спальнями" бумагопрядильной Найденовской фабрики и каморками для мастеров (Подстриженными глазами. С. 50–51). «Мой прадед <...> пришел к Москве <...> и сел на Яузе, у Земляного вала, поставил красильню, <...> а сын его, мой дед, <...> пустил бумагопрядильную фабрику. На этой фабрике я и провел все мое детство и на моих глазах ее закрыли, когда началось новое дело: Московский торговый банк на Ильинке» (Иверень. С. 40). ↑
С. 32. ...купечество выбрало его своим п р е д с е д а т е л е м. – Ср. с воспоминаниями Ремизова о своем дяде по материнской линии Николае Александровиче Найденове (1834–1905): «С 1876 года стоял он во главе Московского Биржевого Комитета, и большинство крупных экономических преобразований и законодательств всяких прошли при его непосредственном участии» (Автобиография 1913. С. 444; ср.: Иверень. С. 38; Б у р ы ш к и н П. А. Москва купеческая: Записки. М., 1991. С. 116).↑
...и он крепко держал ее. – Ср. о Н. А. Найденове: «Именно в период возглавления им московской торгово-промышленной общественности у Биржевого комитета создался тот престиж, который внешне выявлялся в том, что
_______________________________________
новоназначенный руководитель финансового ведомства долгом своим почитая приезжать в Москву и представляться московскому купечеству» (Б у р ы ш к и н П. А. Москва купеческая. С. 116). ↑
С. 32. ...отказавшегося от всяких чинов... – ср.: «Отказавшись при жизни от высокой привилегии – от дворянства, наказал он <Н. А. Найденов» – Ред.> похоронить себя, как самого простого человека – последнего рабочего <...>» (Автобиография 1913. С. 444). ↑
С. 33. ... что-то зудело в воздухе, когда шел он... – Ср. с характеристикой Н. А. Найденова: «По моей первой памяти, это был черный и очень быстрый и <...> маленький человечек, силой своей дикой воли выраставший в великана» (Иверень. С. 41). ↑
...развлекаясь садоводством и благотворительностью. – Ср. с воспоминаниями Ремизова о старшем брате своей матери и своем крестном отце: «Виктор Александрович Найденов, как все его братья и сестры, окончив Петерпаульшуле, уехал в Англию и после пятилетней науки вернулся в Москву <...> "англичанином".
<...> Всю жизнь прожил он одиноко на Земляном валу в белом найденовском доме в семье своего знаменитого брата <...>. Ни малейшего сходства с Найденовыми, сам по себе, подлинно "англичанин". <...> Европеец – Берн Джонс, тонкий профиль и тень печали <...> Директор Найденовского банка на Ильинке – почетное место, а настоящее его дело – он выписывал английские журналы и <..«> следил за литературой <...>. А кроме английских книг, оранжерея.
Круглый год нарядные комнаты белого найденовского дома ярко цвели и благоухали. <...> Как набожный англичанин, <...> воскресенье начинал с церкви, и после обедни каждый нищий получит от него пятачок. Нищие его не любили: этот пятачок не обычная копейка, но с какой гадливостью и из какой дали протянутый <...>» (Подстриженными глазами. С. 219–221). ↑
С. 34. ...всегда был занят. – Ср.: «Младший брат, Александр Александрович, женился на А. Г. Хлудовой <дочери московского миллионера. – Ред.>, занялся хлудовскими делами. Временно найденовское дело осталось в руках Николая Александровича, но фабрика его вовсе не занимала» (Иверень. С. 40). ↑
...вытягивая его из купчишек... – см. весьма важное для понимания «Пруда» 1911 г. в целом и образа Арсения в частности > уподобление Ремизовым в Автобиографии 1913 г. деятельности Н. А. Найденова преобразованиям Петра I: «Начиная с 60-х годов прошлого века до конца 1905 года († 28 ноября 1905 г.) деятельность его в торгово-промышленном. мире поистине была п е т р о в с к а я»(Автобиография 1913. С. 444). ↑
Единственная сестра Огорелышевых... – У братьев Найденовых было три сестры: Мария, Ольга и Анна. ↑
С. 35. Варенька воспитывалась дома. – Ср. описание судьбы М. А. Ремизовой: «...мать Ремизова окончила московскую немецкую школу <...>. Она
_______________________________________
много читала, вошла в среду первых русских нигилистов. <...> В этом кружке она встретила художника Н. Все казалось удачным. Взаимная любовь, те же вкусы, понимание, но в решительную минуту он ей сказал, что не может пожертвовать семьей <...>. Ее это поразило, вывернуло душу <...> и она сама решила свою судьбу – вышла замуж "назло".
Михаил Алексеевич Ремизов, вдовец, старше на двадцать лет. Известный московский галантерейщик. От первого брака у него было пять детей. И вот Марья Александровна очутилась в Замоскворечье, <...> в огромном доме. Верхний этаж – семья, а в нижнем жили приказчики.
Михаил Алексеевич, обходительный, ладный, хорошо знал свое дело. <...> За женой он ухаживал как нянька. Она ездила с ним и за границу <...>. Но самой души ее он, конечно, понять не мог. Ни ее любви к театрам, к книге. С первого года пошли дети, один за другим. И вот срок мести, что вышла замуж назло, кончился. Без всякого к тому хотя бы внешнего повода она решает забрать детей и уехать к братьям – в <...> "белый дом с душистыми комнатами". В этом доме жили старшие братья. Виктор, неженатый, "англичанин" <...>. И другой брат Николай, женатый, трое детей – сын и две дочери. Николай – горячка. Когда Марья Александровна приехала с четырьмя детьми – <...> как брат разговаривал с ней! <...> Ей отведен был на другом конце владенья флигель <...> Приданое за ней взято было обратно, и она оказалась под опекой старших братьев. На руки ей выдавались ограниченные средства <...>. А какой мрак в доме – отчаяние. С первых лет Алексей это сразу почувствовал. Мать в своей комнате за книгой, редкие гости. Самый большой праздник для нее – приход Александра, младшего брата, женатого на Хлудовой. Он любил как и она театр, книги. Был с ней ласков. <...> Александр ни в чем ее никогда не упрекал, не учил... Старшие братья – опекуны: один "срыва", а другой "методический". У них все сводилось к упрекам и замечаниям. Детей по головке не гладили!)» (К о д р я н с к а я. С. 67–69); ↑
С. 35 ... церковь к Покрову... – В кн. «Подстриженными глазами» Ремизов не раз упоминает соседнюю приходскую Покровскую церковь «на Воронцовом поле, которая называлась Грузинской по чудотворной иконе Грузинской Божьей Матери» (С.3 6; см. также с. 279 и др.). ↑
С. 38... и свое дело открыл. – Ср.: «Отец, Михаил Алексеевич Ремизов, с детства попал из деревни в Москву, определился м а л ь ч и к о м в лавку к Кувшинникову, кипяток таскал, в лавочку бегал, к делу присматривался, так и жил на побегушках, а вышел в люди, сам хозяином сделался: Кувшинникова торговля кончилась, началась Ремизова – г а л а н т е р е й н ы й м а г а з и н <...>, две лавки в Москве, да две лавки в Нижнем на ярмарке. Без всякого образования, трудом и сметкой, "русским умом" своим отец сам до всего дошел и большим уважением пользовался...» (Автобиография 1913. С. 442–443). ↑
С. 41... предпримет к законному возвращению жены. – Ср.: «...отец не выдержал, <...> поехал на Тверскую к генерал-губернатору.
Известный московский галантерейщик, наряженный заграничным
_______________________________________
негоциантом: серые брюки, белая жилетка, светлый галстук, черная визитка и цилиндр – с таким "венским шиком", да еще и на собственных вороных, ждать не заставили.
Князь Владимир Андреевич Долгорукий – "хозяин столицы", <...> за преклонностью лет <...>, весь с головы до ног был искусственно составной: обветшалые, подержанные члены заменены механическими принадлежностями со всякими предохранителями и вентиляцией: каучук, пружина, ватин и китов ус, и все на самых тончайших винтиках <...> Отец жаловался, что жена увезла детей и требует развод, но он не знает, в чем его вина <...>. Выслушав отца с помощью трубки, князь не без усилия пошарил в штанах, нащупал что-то <вариант: надавил кнопку> и вынул <или выскочило> что-то вроде... искусственный палец, и этим самым пальцем с восковым розовым ногтем, долбешкой, помотал перед носом отца. Тем разговор и кончился.
Чиновник, выпроваживая отца в приемную, растолковал ему, что символический жест князя, не сопровождаемый словами, означает: за повторное обращение в двадцать четыре часа из Москвы вон. "Примите это к сведению!" И уж от себя добавил, и не без недоумения: "Ваша жена – сестра самого Найденова... чего же вы хотите?"» (Подстриженными глазами. С. 116–117). ↑
С. 41. ...в Боголюбовом монастыре... – Подразумевается памятный Ремизову с раннего детства Андроников Спаса Нерукотворного мужской монастырь, основанный около 1360 г. в Москве на левом берегу р. Лузы. Монастырь был форпостом на юго-восточных подступах к городу. Назван по имени первого игумена – св. Андроника (ум. 13.07. 1374 г.) ↑
С. 42. ...уезжал к себе за реку. – Ср.: «Рано я стал догадываться о неладах между отцом и матерью <...>; только по праздникам отец приезжал к нам и в тот же вечер возвращался домой» (Подстриженными глазами. С. 115). ↑
...не выдержало сердце, – конец. – Ср.: «10 мая <1883 г.>, в день въезда государя (Александра III) в Москву на коронацию, умер отец. Мне не хватало месяца до шести лет, а матери исполнилось тридцать пять; и пять лет, как жила она с нами отдельно.
<...> Отец был старше матери на двадцать лет. <...> он умер от осложнившегося плеврита...» (Подстриженными глазами. С. 166–167).↑
...до самой Москвы хватало. – Ср.: «В духовной своей завещал отец на колокол в село на свою родину, и такой наказал колокол отлить гулкий и звонкий: как ударят на селе ко всенощной, чтобы до Москвы хватало за Москва-реку до самых Толмачей.
Этот колокол заветный, невылитый, волшебный, благовестными звонами вечерний час гулко-полно катящийся с дедовских просторных полей по России – это первый мне родительский завет» (Автобиография 1913. С. 443). ↑
С. 43. ...Никита-с к у с н ы й ... – Ср.: «Фабричные рабочие Найденовской шерстепрядильной сразу наклеили <В. А. Найденову> ярлык "англичанин" в отличие от других хозяев – братьев <...> "Англичанина" никто не любил. Голоса он не подымет, но никогда и не услышишь от него человеческого слова. ↑
_______________________________________
К "англичанину" незамедля прибавилось: "скусный" (скушный) и "змея"» (Подстриженными глазами. С. 219–220).
_______________________________________
| Главная | Содержание | Далее |