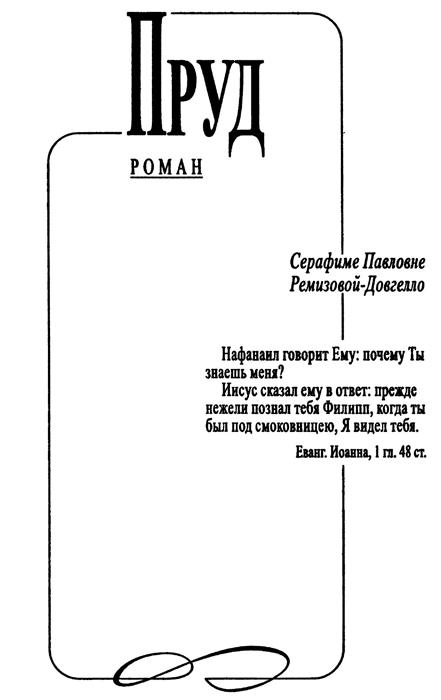
Часть первая
![]()
I
От Камушка до Сахарного завода и от Воронинского сада до Синички тянется огромный двор, огороженный высоким, красным забором, часто утыканным изогнутыми, ржавыми костылями. К Синичке примыкает пруд, густо заросший со всех краев старыми деревьями, на конце которого шипит и трясется бумагопрядильная фабрика с черной, закопченной трубой, а немного дальше, миновав оранжерею и цветник, выглядывает исподлобья неуклюжий белый дом.
Дом братьев Огорелышевых.
На противоположной стороне – красный флигель с мезонином...
А там от него вдоль двора фабричные спальни, дрова, амбары.
Еще не померкла тень деда, Павла, и много кругом живет темных историй.
Скрюченный кощей, без всякой растительности на морщинистом лице, с лукаво-острыми глазками, наводил он на всякого, с кем сталкивался, неимоверный ужас. Город же крепко держался своего головы, гордясь умом и упорством, с которыми вел тот свою линию, выдвигая и охраняя купечество. Все ходили пришибленные и запуганные, за завтрашний же день не боялись: не выдаст. В семейной жизни слыл столпом. Женился рано, без любви, только потому, что Серафима была затворницей, в монастырь идти собиралась: красавица со скитской поволокой темных, глубоких глаз подвижницы, с тонким разрезом губ сладостно-тихо улыбающейся мученицы. Скоро она надоела ему и принуждена была хорониться в детской, вынося смиренно свою жизнь.
«Серафима, угодница Божья, – приступал, бывало, старик, – на кухне там девочка стоит одна, зябленькая, сироточка...
303
![]()
Пригрей ты ее, ножки ты ее худенькие обмой, грудочки приласкай, хе-хе-хе»...
А сам трясется весь, губа ходуном ходит, отмачивается.
Нищенку после омовения вводили в кабинет, да в стороны шарахались от крика беспомощного, наполнявшего весь дом...
После его смерти дело и капиталы перешли к сыновьям, из которых быстрее всех выдвинулся старший. В центре города открылся банк, на Кавказе – керосинное дело, в Средней Азии – хлопок, – и везде во главе стоял Алексей. Скоро выбрали его председателем биржевого комитета, и с этих пор началась его настоящая деятельность и та слава, которая увековечила имя Огорелышевых. Стал известен на всю Россию. Проводил и останавливал законы. И этого маленького и юркого человека, окончившего какой-то немецкий пансион, слушались, ненавидели и льстили.
В детстве его баловали, Ленечку к ранней обедне не будили,
Ленечке покушать давалось самое лучшее.
«Икорку-то Ленечке оставьте!» – ныла мать, перенесшая свои васильковые слезы с Лучезарного Жениха на первенца.
Сгорбленный, с сведенными крючковатыми руками, заросший неряшливо подстриженной, колючей бородой, он не ходил, а странно шмыгал, будто ноги были сами собой, чем-то слабым, земным и ничтожным, за плечами же развевались тончайшие крылья, неутомимо рассекавшие воздух.
«Антихрист, честное слово! – говаривали фабричные, – и ходить-то путно не может, летает дьявол, сатана рогатая».
Правда, что-то шипело, когда он шел, а глаза серые, непроницаемые, кололи пронырливыми остриями, которые, вонзаясь, выворачивали и расцарапывали всю душу.
Возиться с фабрикой Алексею не было времени, и все управление понемногу перешло в руки второго, Игнатия, который всю свою молодость прожил в Англии, знакомясь и изучая тамошние порядки.
Когда-то красавец и теперь ничему не удивлявшийся седой Дон-Жуан с грустящими губами – тенью неутоленных поцелуев, – оставался он холостяком, развлекаясь садоводством и благотворительностью. Управление фабрикой занимало так мало времени: все было налажено и круто втиснуто в крепкие рамки.
Третий – Николай, восхищавший весь город своей утонченностью и приятностью, рано женился на миллионерше Ворониной, числился директором множества фабрик и, ровно ничего не делая, вечно был занят.
304
![]()
Когда о чем-нибудь его просили, он морщился и, изящно отмахиваясь обеими руками, говорил своим милым голосом: «Ах, право, мне некогда: сегодня опять ехать усмирять этих негодяев, потом на вечер к князю»... Но больше знали и больше ценили Николая за границей, где славился он величайшим ценителем и покровителем тайных и запретных притонов...
Всех их объединяла одна черта, выражавшаяся наиболее ярко в старшем: где-то в окаменевшей улыбке хоронилось затаенное желание взять, достать что-нибудь только потому, что так нельзя этого взять, преступно.
Попадется ему человек, обретший в жизни благовещение, и вот загорается, закипает в нем желание умертвить мечту человека.
Так разрушались жизни, загонялись жизни в подполья, калечились.
Единственную сестру свою Вареньку, двойника матери, по общему решению насильно замуж выдали.
Варенька воспитывалась дома. Ходили учителя. Девочка росла смышленая и пытливая; глядели за ней мало. Ходила она по субботам в приходскую церковь к Грузинской, но были и еще какие-то знакомства, о которых знала одна нянька. Братья с ней не разговаривали, да и она избегала их.
Как-то на первые заморозки, в светлую звездную ночь, в доме необычайно засуетились, а потом жутко примолкли. Варенька сидела в кабинете брата, Алексей допрашивал. Он метался, как ужаленный, топал ногами и, подбегая к столу, нервно тыкал в сверток с книгами, только что отобранный у нее. Варенька упорно молчала, мертвела, и темные глаза заволакивались темной, безмолвной слезою.
«Так пошла вон!» – закричал вдруг взбесившийся голос и, разбившись на тысячу режущих криков, рассек трепетавшее затишье и ожиданье комнат.
Через неделю объявлена была свадьба.
Почему Варенька на улицу не сбежала, почему не задушила себя, зачем накануне долгую ночь по сугробам бродила, заглядывала в дымящую черную прорубь, зачем взяла на себя крест своей матери...
«Господи, подкрепи меня!»
Покорилась, пошла под венец.
«Не бывать барышне нашей счастья в замужестве, – охали по двору, – лошадь не повезла».
Началась жизнь с чужим у чужих в темном, облупляющемся доме за рекой.
305
![]()
Елисей Финогенов, крутой и тяжелый, старше Вареньки лет на двадцать, вдовец с кучей полувзрослых детей, жену держал строго.
«Пожили бы вы, как я жил, – ворчал он, – погнули б хребты, не то бы заговорили: театры-то эти выбросили бы из головы. Одни траты, а копейка с ветру в карман не валится».
Жизнь его была нелегкая. Изголодавшийся мужик-отец привел в город своего Елеську, почерневшего и шелудивого от серой, деревенской нужды, и определил в лавку Толокова мальчишкой. Елеська рос, за кипятком бегал, тычки получал, ситцы таскал, даже кровь носом хлестала. А выровнялся и сметливым оказался. Хозяин без него и шагу не ступит: счета какие-то выдумал, прибыльные. На пятнадцатом году произвели в приказчики. Прибаутчиком да насмешником слыл и на гармонике играл и песни пел: голос нежный, так в душу и просится. Хозяйке-старухе очень по душе пришелся за набожность. Скоро повысили в главные. Теперь Елисей разъезжал за товарами, бывал и за границей. Как-то вернулся домой да не один, а с женой, немкой. Умер Толоков. До наследников все хозяйство перешло в его руки; пожил несколько лет управляющим, там отошел и свое дело открыл.
Хаживал на биржу, понравился Алексею.
«Елисей – человек верный, – говорил тот, – без мыла куда хошь влезет».
Немка зачахла, не вынесла.
Когда отдали Вареньку, он поднимался все выше и выше вровень с Огорелышевыми. И все было хорошо, одно мучило: дети не в отца пошли. Хоть и пристроил их по лавкам, да толку мало. Дочь Ефросинью замуж выдал, и тоже неудачно.
Пять лет прожила Варенька в доме. Никто у них не бывал, и они никуда не выезжали, кроме ярмарки, да к Огорелышевым в праздник.
Что за эти годы вытерпела, какие рождались и умирали думы в ее изболевшем сердце, – она никому не сказала. Целыми днями молча ходила по высоким, холодящим комнатам, а вечер придет, сядет в углу где-нибудь и слушает: в детской колыбельки поскрипывают, баюкают – в приказчичьей – гармоника, едва слышная; кажется, звуки через пол проползают; на половине других детей – смех, сдавленные выкрики и говор частый, слитный.
Золотой крест матери вырастал в крест-виселицу. Чьи-то руки пригвождали к кресту... и упиралась она, рвалась.
Бунтовалось сердце.
306
![]()
Растоптать бы тогда крест матери...
Измучается, истерзается, да, обессиленная, тихая от грызущей тоски, с отчаяния к мужу пойдет...
Чуял ли он беду в ее порывистых ласках, в этих отчаянных поцелуях, в этом опаляющем дыхании?
Любил ее.
«Я с тобой!» – вот и все.
Как-то старший пасынок, Василий, давно ухаживавший за Варенькой, посягнул...
Собрала детей и, не дожидаясь мужа, прямо к братьям.
Веселая ночь была, звездная, шумно-весенняя.
Засуетились по дому, молчание наступило страшнее того. Кричали. А вышли оба безмолвные. Темные глаза ее, казалось, поседели, а Алексей синий, мертвецом выглядит, и шея завязана носовым платком... Душили, что ли, друг друга? – Бог знает.
Лето прожила на даче, а к зиме во флигель переехала.
Положили выдавать ей на жизнь какую-то сумму, а приданое в дело отобрали.
Очень огорчился Елисей, умолял вернуться, в ноги ей кланялся, но так и уехал ни с чем.
Варенька сразу затихла: бросилась – дух захватило. Там, в ее желаниях – этой пучине извивающихся рук – оборвалось что-то, что-то смешалось и кануло. Оставались жалобы, воздух жалоб, переполнивший все сердце, и больное, бледное, «хочу» тихо плакало.
Фабричный свисток да колокольный звон Андрониева монастыря, возвышавшегося за пустырем и Синичкой, сторожили ее жизнь.
Изредка ходила в гости, в театр, а большую часть оставалась одна с детьми. Их было четверо, все мальчики: Саша, Петя, Женя и последыш – Коля, все погодки.
Братья Вареньки заходили к ней только в именины, а Николай за недосугом коробку конфет присылал.
Гостей не бывало, кроме забегавшей Палагеи Семеновны, какой-то дальней родственницы Огорелышевых.
Когда дети чуть подросли, открылись перед ними улица и двор с их обостренной борьбой за нищенскую жизнь, с безобразным разгулом, со смертью увечной, беспощадною.
Старики-фабричные любили Вареньку, и это передавалось молодым, а по ней и детям честь шла.
И дети очень любили их. Тянула та ласковость, с которой обходились с ними все эти люди.
Бегали в сторожку, каморки, будку и там пили чай жиденький
307
![]()
вприкуску и ели картошку и тюрю с мелко накрошенным луком. Фабричные дети водились с ними: дрались и играли, рассказывали о пинках и оплеухах, и как их штрафуют и порют.
Племянники не иначе называли своих дядей, как хозяева, и повторяли фабричные прозвища: «Алешка-антихрист», «Игнатка-англичанин-змея», «Миколка-скусный». Стариков же, всех этих Никифоров, Демьянов, Иванов, величали дяденьками и дедушками
II
Зимние сумерки снежные, тихие...Они видятся маленькому курносенькому Коле сквозь пустую звездочку, прожженную папиросой на оборке дивана.
Он лежит на полу под диваном, скорчившись и неловко, как связанные телята на возу-лотке, когда везут их на бойню за Андрониев монастырь. Каждый день медленно и томительно тянутся такие возы мимо дома, и всегда он бежит смотреть на болтающиеся языки и мягкое, полуживое, вздрагивающее тело.
Над головой вплотную спускается сиденье дивана, тяжелое и темное, в паутине; если оно провалится, то и тельце его расплющится, как лягушка, которую раздавил как-то дворник Кузьма своим огромным, явлочным сапогом.
Пыль забирается в нос, душит, а глазам так больно.
Над ним сидит его крестная, Палагея Семеновна и мать. Палагея Семеновна болтает ногой и, захлебываясь, рассказывает.
Она после долгого перерыва беременна и боится, как бы не повредить; Сергей Аркадьевич, доктор, сказал, роды будут тяжелые, пожалуй, операция.
Страшно захотелось Коле чихнуть, даже глаза закололо, а по всему лицу забегали мелкие, щекочущие мурашки. И хорошо бы покашлять громко и несколько раз!
– Покойный Елисей Федорович, – звенит голос Палагеи Семеновны, – после вашего развода, Варенька, сошелся с горничной Сашей; ну, помнишь, такая тощая с ямкой между бровями; так вот, теперь с ней живет Василий. Просто ужас, ужас.
Да, вчера А. рассказывал удивительные вещи: от вашего наследства, кажется, ничего не останется: дом продают, страшно кутят, в магазине никогда не видно. Я не могу представить, как ты могла прожить с ними. А Фроню, знаешь, говорят, на бульваре видели с кавалерами... Да-да, с кавалерами. Прямо неприлично.
308
![]()
Крестная зашептала.
Коля перестает дышать.
– Выкидыш... вытравляли... до желтого билета.
Больше не разбирает.
Ножки стола и кресел покрываются чем-то черным, словно копотью, и толстеют. Ковер разбух и зашаршавился, будто мясистая шкура какого-то невиданного зверя на ярко раскрашенных картинах.
Сморкаются.
Запахло духами.
Ставят на стол лампу.
Это – Маша, горничная, высокая и красивая, с завитками на лбу.
– Готов ли чай? – говорит мать. – Поторопись, пожалуйста.
Коля осторожно перевертывается, учащенно дышит. Левая нога у него затекла, в ней будто песок, и она кажется такой огромной, чужой.
Цветы на ковре сразу стали яркими и большими, медные ножки кресел, словно подсвечники или пожарные каски.
Маша уходит. У нее новые ботинки на высоких каблуках, а не стучат, – это Филиппок ей сделал. Со временем и у Коли такие сапоги будут, теперь же у него тяжелые и скрипучие.
Палагея Семеновна опять затараторила, словно чему-то обрадовалась.
Шелковые юбки зашуршали
– Вчера у Л. был А. С., мы были поражены: никто не мог ожидать. П. П. на прошлой пятнице прозрачно намекнул при всех, что их отношения для него не тайна. А Лизочка, право, такая наивная! Ну, представь, Варенька, ведь это ужасный человек: К. А., О. М., Е. И. и теперь Лизочка. Право, как-то...
Да! на рожденье Тани, Н. П. взял Катю на руки и при всех, – мы только что вышли из залы, они фокусника приглашали, чудный фокусник, – понимаешь, при всех, показывает на А. Е.: «Смотри, – говорит, – Катя, вон твой настоящий папа». Бедненькая Ксенечка не знала, что делать. А. Е. побледнел, как полотно.
Словом, сплошная нетактичность. Мы просто не знали, куда деваться... Да!
Опять шепчет.
– К. Ф... каф... аф...
Коля напрягается что есть силы, а понять ничего не может.. Он устал, в спину что-то колет, словно булавкой.
309
![]()
Среди груды имен и мудреных слов вытягиваются заглавные буквы – инициалы знакомых в длинные уродливые завитки, туманно-огненные. Они прыгают и звенят.
Он привык к ним, слышит с осени, когда впервые залез под диван и навострил уши.
С нынешнего лета началась для Коли новая жизнь. Раньше он был не таким: уж стал вспоминать что-то хорошее, что было когда-то третьего года, стал скучать.
Весной умер отец. Коля помнит большого человека, непременно в майской белой паре, с драгоценным перстнем на волосатом пальце. Черные, большие усы, колкие, когда целовался в губы и лоб. Приезжал он по воскресеньям, обедал, и всегда была лапша и черная каша. Когда выходили из-за стола, в кухне уж поджидал кучер, Таврило, и долго катал детей с нянькой по городу.
Теперь он знал много разных сказок...
Вечерами дети торчали за воротами, куда выходили посидеть фабричные.
Шустрый и пронырливый, он быстро развивался. Ему шел восьмой год, а близорукие темные глазенки, как жучки, таращились и искали, высматривали.
Падок он был на всякий рассказ и прилипчив ко всякому.
Дети рано начали купаться. Плавать учила Маша. И, научившись, Коля долгое время притворялся неумелым: ему было непонятно приятно, когда Маша брала его на руки и, прижимая к груди, улыбалась розовой улыбкой созревшей девушки.
Среди игp, в которых он занимал особенное место, отличаясь озорством и плутнями, была одна игра запретная, разыгрывавшаяся за дровами у забора Воронинского сада, да на покатой, зазеленевшей мягкой крыше курятника – местах, скрытых от взрослых.
Называлась игра «Стручки продавать».
Вдруг Коля застыл, сердечко камушком сжалось: уронили что-то.
– Excusez-moi, не беспокойся, оставь, Варенька, я – сама! – рука Палагеи Семеновны, пухлая в кольцах, шмыгнула около самого носа Коли.
Нашла, слава Богу!
Коля сопит, не может удержаться. По телу разливается что-то горяче-колкое.
– Чтой-то у вас, крысы?
310
![]()
– Нет, должно быть Шумка, он вечно тут трется.
В зале застучали блюдцами.
– Варвара Павловна, чай готов!
Уходят...
Коля приподнимает оборку, насторожился...
Вдруг шорох. Будто и еще кто-то... кто-то встал и...
Юркнул обратно.
Мешают сахар. Упала ложка.
– Дама будет.
– Понимаешь, Варенька, – снова понеслась Палагея Семеновна, – это Бог знать что, просто невероятно...
Коля прополз до дверей и пустился.
Высокий темный киот, освещенный красной лампадкой, строго провожает его всеми ликами и гневными и скорбящими.
Они все понимают.
Нервно цепляясь за перила, подымается он наверх в детскую и прямо на няньку.
– Где это ты, Колюшка, пропадал? – спрашивает Прасковья, зорко всматриваясь через огромные медные очки; она сидит у стола, где обыкновенно Саша и Петя учат уроки, и штопает рваные чулки. – Ишь, завозил курточку-то, быдто мешки таскал.
Дай-ка я тебя, девушка, почищу!
–Так, няня, живот у меня.
– Покушал, знать, лишнего, он у тебя... Горчичнику поставим...
Коля прилег на Сашину кровать и зажмурился.
– Или бутылку. Поветрие нонче ходит: напущено, знать, нечистым, согрешишь грешный.
Кто-то зашмыгал по лестнице.
Больше зажмурился.
– Колечка, – с ласкающей оттяжкой по-детски зовет Маша.
– Колечка, чай кушать ступайте!
Коля обрадовался, вскочил, но супится: неловко ему.
А Маша подходит к няньке, будто на работу посмотреть и... ам! – поймала Колю, затеребила, зацеловала сладко-сладко и в носик, и в ушко, и в глазки.
– Красавчик ты мой, речистый ты мой, ма-а-ленький!
– Ну чего, лупоглазая, чего развозилась, – ворчит Прасковья, – мальчик хворый: что ни час, новая болесть открывается, а она лезет. Да и под руку толкаешь...
А Маша смеется, будто и знает что, да не скажет.
– Ужинать-то скоро? Всю-то, девушка, разломило, поясница
311
![]()
гудет... И когда этот колокольчик, прости Господи, сгинет!..
Пойти, перекусить, что ли.
Нянька и Маша уходят.
* * *
Коля вытягивает ручонки и идет в смежную длинную, низкую комнату, где стоят кроватки детей, и спит Прасковья.
Темно. Чуть живет изнывающий мутный луч перед образом Трифона Мученика.
Коле не так чтобы очень уж страшно...
В всматривающихся глазах, не потухая, плывет глубокий, лиловый кружок с серо-серебряным ободком. На что-то натыкается.
Сердечко заколотилось...
– Господи Владыко, что ты, Коко, неосторожный какой!
Анна Ивановна – «бабушка» из богадельни – расстелилась на полу вздремнуть до ужина.
– Бабушка!
– У, вертопрах, – охает бабушка, – все-то ноги отдавил...
И куда это ты запропастился: днем с огнем не сыщешь. Ходила на пруд, – все дети развлекаются, горку строят, а его нет как нет.
–Бабушка, – подлащивается Коля, – дай, бабушка, мне понюхать табачку немножечко?
– Изволь, душа моя, изволь. Бахрамеевский, свежий. Всех старух намедни потчевала, даже сам Александр Петрович – отважный – отведали.
– А я тебе, бабушка, духов подолью!
Хватает табакерку и опрометью бежит вниз через кухню в столовую и трясется весь: вот расхохочется; глазенки прелукавые. Там влезает на шкап, достает из стеклянного буфета толченого перцу, подсыпает в табакерку, потом плюет и размешивает.
Теперь строит кислую рожицу и медленно идет в зал.
* * *
– Жарок небольшой есть, – говорит Палагея Семеновна, – покажи, Коля, язычок. И, какой красный!
– Завтра дома посидишь, – замечает мать, – к Василию Егоровичу можно и не ходить, да и Женя поотдохнет немного.
– А мой-то, мой-то! Представь, Варенька, третью неделю не выходит. Был Поморцев, говорит: коклюш. Удивительный доктор! Да! напомни мне, Варенька, сказать что-то...
С тех пор как на третьем году была у Коли скарлатина с во-
312
![]()
дянкой да вскоре затем корь, – он не хворал ни разу. Вообще, дети отличались крепким здоровьем, несмотря на все рискованные проделки: ели снег, глотали больших мух, выбегали в одних рубашках в холодные сени, тонули в прорубях. Больными же притворялись часто: одни – не ходить в гимназию, другие – к дьякону. Исключением был Женя, который после всех болезней Коли получил еще дифтерит и одно время ослеп, потом оправился, но прихварывал. Болели у него глаза, и не глаза верней, а где-то над бровями: схватит и мучает, – свету тогда не видит и плачет убито, как только плачут безответные дети. И лунатик он был: по ночам проделывал диковинные вещи. Водила его Прасковья в монастырь к схимнику о. Глебу, – будто и полегчало. Глаза у него такие были грустные, забиякой не слыл, а все же разойдется – маху не даст.
«Кто ж их разберет, – говорила Прасковья, – все они на одну колодку, – разбойники сущие...»
В сенях, на черном ходе, вдруг закричали, потом сразу притихнули и снова. Что-то шлепалось и кувыркалось.
– Опять подрались, – встает мать, – сладу с ними нет.
Палагея Семеновна самодовольно улыбается, опустила глаза на блюдечко, вылизывает ложкой последние ягодки.
Коля надулся: и на пруд не ходил,'да и горчичник впереди... горчичник больно щиплется! Исподлобья следит за Палагеей Семеновной, начинает злорадствовать – вымещает.
Летом привела она своего Ванечку. Они взяли, да обмазали его навозом, накормили куриным пометом, а потом затащили в лодку и волнение устроили. Гувернантка так и ахнула, поволокла к «мамочке», а он ей бух самое нехорошее слово.
«К таким уличным мальчишкам нельзя благородного пускать!» – возмущалась после Палагея Семеновна.
«Я к тебе, Варенька, чаще буду, я займусь их воспитанием. Посмотри, мой какой: просто пая».
– И не нуждаемся, – говорит себе Коля, вспоминая историю с Ванечкой, – ас Ванечкой мы и не то еще... фискала!
Гуськом, пинкаясь, входят остальные. Раскрасневшиеся, с царапинами и линяющими синяками на скулах и под глазами. В подштопанных и заплатанных курточках.
Саша – рослый и остролицый, с длинными руками, лобастый, как Коля; глаза продувные, с поволокой матери.
Петя – губошлеп; розовенькая мордочка с певучими глазками.
Оба большатся. Женю и Колю пренебрежительно честят мелюзгой.
313
![]()
– Как твои успехи, Саша? – жеманно подобрав губы, спрашивает Палагея Семеновна.
– Ничего, – резко отвечает Саша, – четверку по-латински схватил, extemporale писали, пять страниц.
– Вот как! У вас новый директор?
Саша речисто и бойко рассказывает – сочиняет: будто во время уроков новый директор садится у классной двери и следит в подзорную трубку через матовое окошко; вот сегодня Саше случилось выйти, и он наткнулся, причем директор очень смутился, спросил фамилию и потрепал по головке; с учителями директор разговаривает не иначе как по-гречески, только на совете изредка по-латински, слова два...
Начинает захлебываться, беспокойно вертит руками, ударяет по столу, теребит ремень и загрызает ногти.
– В восьмом классе показывали яйцо страуса в шестьдесят пудов. Петр Васильевич, физик, едва дотащил. Во какое!
– Ай, ай, ай!
Петя ни слова.
Входя, он бросил Коле «кузит – музит – бук – сосал», состроив перед самым его носом фигурку: пригнул пальцы к ладошкам, большие оттопырил рогами и скоро-скоро зашмыгал мусылышками.
Он мечтает. Влюблен в пятнадцатилетнюю гимназистку, серенькую и пухленькую, исподтишка кокетничающую с мальчишками за всенощной.
Каждый раз, когда гимназистка выходит из церкви, они с фырканьем кидаются в нее воском, норовя прямо в глаза.
Сегодня в кармане нашел обрывышек бумажки, на котором мелким стоячим почерком, почему-то очень напоминающим руку Саши, было написано: «Милый Петя, я тебя очень люблю. Варечка».
Женя налил полное блюдце, уткнулся, дует и тянет.
Палагея Семеновна идет к роялю. На пюпитре появляются истрепанные, замуслеванные «Гусельки».
Начинается «Ах, попалась, птичка, стой...», «Что ты спишь, мужичок...»
В детские голоса врывается истошный голос Папагеи Семеновны; она закатывает глаза, томно ударяя о клавиши.
Из всех выделяется Петя: нежно-молитвенный дискант, а глаза голубеют и льются. В гимназии – певчим, этим только и берет, а то – беда.
Саша басит, оттягивает катушкой губы, как протодьякон.
Женя подтягивает пресекшимся, бесцветным голоском, застенчиво.
314
![]()
Коля ни звука. Сидит и упорно молчит: он должен казаться больным... и горку без него состроили... горчичник.
У него женское контральто, «орало-мученик», как окрестил лечивший его доктор. И постоянно мурлычет, напевает какую-то бесконечную песню, а вот, – ни гу-гу.
– И не буду, и не стану, – мучается Коля, – сами-то вы...
А петь так хочется: встал бы вот и громко-громко. Слезы подступают и идут, идут... Вдруг вспоминает о табакерке и наверх...
Капля дождевая
Говорит другим:
Что мы здесь в окошко
Громко так стучим?* * *
– Подлил, бабушка, много подлил: через край полилось!
– Ах, Коко, Коко, – встречает бабушка, – а мне и невдомек.
Все мышиные норки перебрала, думаю себе, не обронила ли грешным делом... Ну, merci тебе. И чудесный же ты у меня, Колюшка, курнопятка ты проворная.
Часто Коля пользуется забывчивостью бабушки: возьмет вот так табакерку и спрячет, а сам ходит около, смотрит, как та томится, да, насмотревшись, вдруг, будто случайно, и находит...
Возвращается в зал. А там уж начали новую из новой, в первый раз принесенной, тетрадки: «Грустила зеленая ива, грустила Бог знает о чем...»
Коле стало жалко Палагею Семеновну.
– Операция! – вспоминается ему, – знать, кишка какая...
Молчавшая мать встала и быстро пошла в спальню...
Повторили. И еще раз повторили.
Палагея Семеновна собирается домой.
III
Вечер. Чуть внятны напевы ворчливого ветра.
Саша и Петя учат уроки. Скрипит перо. Мерное бормотанье.
Женя и Коля лежат с бабушкой, тут же лежит окотившаяся на днях Маруська с шестью котятками, и шелудивый Наумка.
– Бабушка, первый декабрь! Наумка именинник!
Бабушка гладит по брюшку кошку и творит молитву.
– Что ты, нагрещник: тварь пар. А его, паскудника!, надо политанью вымазать; истаскался весь шатамши.
315
![]()
Женя дремлет.
Котятки перебирают лапками, сосут.
Наумка запевает.
Начинается длинная сказка.
– Про Ивана-царевича? – перебивает Коля бабушкино «жил-был в тридевятом царстве, в подсолнушном государстве».
– Про него самого, душа моя, про царевича и серого волка.
И видится серый волк, видится так ясно волчья, шаршавая мордочка. Вот входит волк к Ивану-царевичу: весь хвост в жемчугах, улыбается, язык-то красный и острый страшно, глаза горят. «Ну, – говорит, – спас я тебя, выручил, – живи и царствуй; а наград твоих не нужно мне, пойду в дремучий лес». – «Спасибо, – отвечает Иван-царевич, – спасибо тебе, серый волк, вовек не забуду: не случись тебя, – лежать бы мне на сырой земле».
Мед вкусный-превкусный – соты-меды, а в рот не попало...
– Буду большим, – думает Коля, – богатырем стану.
Зажигается свечка
Входят Саша и Петя. Уроков они не выучили, но тетрадки побросали в лысые ранцы, будто все в исправности.
На столе появляется старое евангелие в черном кожаном переплете с оборванными застежками.
– О страстях Господних!
Бабушка начинает нараспев, медленно...
–И поем Петра и оба сына Заведеева, начат скорбети и тужити.
Тогда глагола им Иисус: прискорбна есть душа моя до смерти: подождите зде и бдите со мною.
И пришед мало, паде на лице своем, моляся и глаголя: Отче мой, аще возможно есть, да мимоидет от мене чаша сия; обаче не якоже аз хощу, но якоже ты.
И помяну Петр глагол Иисуса, реченный ему, яко прежде даже петель не возгласит, три краты отвержешися мене: и изшед вон плакася горько.
Бабушка молитвенно замолкает.
Присоседившиеся к ней мальчики замерли.
Слышно баюканье ветра, и не потухает горькое слово.
Горько так.
– Будь я Петром, никогда б не отрекся...
– Господи, если б Христос пришел...
316
![]()
– И поскорее бы Пасха...
– А там и распустят...
– Двенадцать евангелиев...
Женя прижимается к бабушке, тычется головой к коленям, а над ним шевелятся концы коричневого, горошком платка.
Стук-стук в окно.
– Ангел!
Богородице Дево, радуйся.
Благодатная Марие, Господь с Тобою...
Пропели, никто не трогается с места.
– А отчего звезды падают? – спрашивает Коля.
– Ангелы незримые... ангелы падшие... – и вдруг бабушка оживляется: – Саня, – умиленно говорит она, – душа моя, принеси и почитай моего любимого Пушкина. Что-нибудь чудесное...
Саша приносит изодранную «Капитанскую дочку», откашливается и начинает.
Под конец, на месте: «Прощайте, Марья Ивановна! – Прощайте, Петр Андреевич!» – бабушка с Петей тихонько плачут.
В прошлую субботу за всенощной Петя подбросил Варечке записку, на которой стояло его собственное стихотворение:
Ваши очи страстны.
А коса – руно.
Разве вы не властны
Ялику сбить дно?Наутро за обедней, проходя мимо с кружкой, он, полный ожидания, взглянул... Та прыснула, и только.
– В Сашу влюбилась... А зачем на Воздвиженье смотрела на меня? И письмо это. Знаю, какая...
– Э-х, душа моя, – говорит растроганная бабушка, – какая я была! Лицо лосное, польское, – сам граф Паскевич Иван Федорович...
Пускается в воспоминания, рассказывает о крепостном времени, потом незаметно переходит к богадельне.
– Бабушка, а бабушка! – лукаво прерывает Коля.
– Что тебе, дружок?
–А все же мы тебя, бабушка, из членов Святейшего Синода...
– Вычеркнем, вычеркнем! – загалдели остальные.
– Не имеешь права. Будет. Времена не те...
В чем дело – сообразить не может. Чувствует какую-то насмешку и, пригорюнившись, замолкает.
317
![]()
– Ну, ладно, – сдаются дети, – подождем..» пока.
– Ах, Коко, Коко, и всегда-то ты озорной был, задира сущая...
Кормилку твою первую вытурили, с желтым билетом объявилась: гулящая. Поступила Евгения и жизни невзвидела. Бывало, ревмя ревет: все норовишь соски поискусать; как вцепишься, – ни за какие блага оторвать невозможно. А как стал ножками ходить, – годочку тебе не было, – жили на даче, и повадился ты на «кругу» целоваться. Как сейчас помню, Колюшка, впился ты губками в Валю, насилу оттащили, а носик-то ей и перекусил.
Потом и себя изуродовал: Господь Бог наказал. Варим мы крыжовник с покойницей Настасьей, царство ей небесное, обходительная, чудесная была женщина, мамашу выходила, ну, и слышим крик. Побежали наверх, а ты, Колюшка, лежишь, закатился, синий весь, а кровь так и хлещет, тут же и печка. Залез ты на комод, да и сковырнулся прямо на печку окаянную. С того самого времени ты и курносый.
Бьет восемь.
Вскакивают и под часы: подпрыгивают, топочут, стучат, кричат – «мышей топчут».
– Ну, Коко, похвальный лист тебе, – одобряет бабушка, – удружил: табак чудесный вышел, так и дерет.
Тянутся с щепотками, нюхают, чихают и вниз.
На лестнице сцепились. Коля дал тумака за «кузит – музит», Петя оскользнулся, задел Женю, Саша захотел пофорсить – взять всех на левую – ударил Колю под живот, тот задохнулся, укусил его за палец.
С покрасневшими глазами, дуясь, толкутся в кухне.
– Оглашенные вы, и лицемерные, – ворчит Прасковья, – не будет вам ужотко гостинцев. Только мамашино здоровье расстраиваете.
Степанида, иконописная кухарка, повязанная по-староверски темным платком, изловила здоровенную рыжую крысу-матку.
Начинается расправа.
Мышеловку ставят на табуретку. Потихоньку льют кипяток.
Крыса визжит и мечется. Льют, льют, льют... С хвоста слезает шкурка; хвост стал розовым и нежным, дрыгает. Дается отдых; крысу тыкают лучинками, поганым ножом. Снова появляется кипяток, снова льют, норовя на глаза. Крыса, нервно и судорожно умываясь лапкой, кричит, как человек.
Шелудивый Наумка, курлыча, трется с возбуждеными, злыми глазами...
– Ха-ха-ха...
318
![]()
Переходят в столовую.
Ужинают нехотя, едят – давятся, но наверх не идут.
Лазают за занавеску на кровать Маши, рассматривают ярко намалеванные картинки: «Священное коронование», подделывают хвостики и рожки, и, только после долгих уговариваний, угроз Прасковьи, Степаниды, бабушки, – отправляются.
Сначала подходят к спальне прощаться. Стучат...
– Тише, вы, – останавливает нянька, – мамаша заперлись: нездоровы... У, неугомонные! – и когда-то вас Господь на ум-разум наставит!
Долго и шумно укладываются: ждут «гостинцев». И мало-помалу затихают.
* * *
Из кухни доносится чавканье.
– Наездился он на мене, – рассказывает Степанида, – рожать Филиппка время пришло, – бросил постылый: со стерьвой-сукой своей связался.
И не шляйся ты, хухора, с журавлевским приказчиком, - поучает Машу, – не висни ты у него на шее: он те подол задерет, загадит всю и кинет опосля. Куда брюхатой?
– А Юдишна говорит, околдовали вы, Анна Ивановна, старичка отважного: неспроста промеж вас увивается. Кабы смотритель...
– Хи-хи-хи...
Коля ждет: бабушке постелил - под засаленный, просетившийся, ватный подстильник полена положил; и сделал все это аккуратно и чисто, – совсем незаметно.
Начинают перемывать посуду.
Лампы гасят.
Шлепают по лестнице – идут наверх.
Коля завернулся с головкой, только носик торчит.
Нянька тычется по углам, шарит:
– Куда это я, девушка, ватошную вещь задевала, – не сыщешь.
Коля смеется, не открывая рта.
– Колюшка – молодец у меня, лучше всех детей: и постель постелил и вродеколону в табак налил.
– Мочи моей нету, девушка, измаялась, измаялась я: день-то-деньской шатамши, ноги отваливаются.
Почесываются.
– Господи, Владыко!
319
![]()
– Митя-то сызнова, девушка, в золоторотцах. С трактира погнали: запой, знать.
– Напущено.
Бабушка всунула голову в ворот рубашки, засветила там огарок и ищется. Коза ряженая.
– Спрашивала я батюшку, отца-то Глеба, – молитву дал. Знать, Богу уж так угодно... Э-эх, девушка; по пятому годочку в трактире-то; несмышленого, махонького определила; думашь, девушка, должность чистая, а вот подижь ты, – может, и напущено. Сердце матери изболелось, глядемши... Закопытили его, сердешного...
Тихо, только часы ходят.
Начинают молиться.
– Скорбящая Матерь Божия, Грузинская...
– Троеручица, Владычица моя матушка...
– Горы Афонские, согрешил вечеславный....
– Богородица, присно Дева...
– Окаянная... Словом еже делом, помыслом нескверным...– Митрия, раба Твоего...
– И от блуда всякого сохрани и помилуй...
– Беззаконная...
Коле вспоминается этот Митя, длинный и серый, с крысьими хвостиками-усами, в коричневой визитке, штиблетах без стука. Коля проходил через кухню, и он встал: «Здравствуйте-с, барин!» – и низко поклонился.
– Аминь.
– От лукавого...
Бабушка опускается на постель.
– Чтоб тебе! – вырывается вдруг ее сдавленно-негодующий вопль, – курносая пятка, курнофейка окаянная, уродина паршивая, скажу мамаше. На старости лет... Господи...
Шлепаются полена.
Отчаянно раздирая красненький ротик, пищит придавленный котенок.
– Оглашенные! – ворчит Прасковья.
Монотонный свист и колыхающийся храп покрывают комнату, и комната засыпает.
IV
Не спится Коле, ерзает, разбегаются мысли.
Обидел Коля бабушку, ни за что обидел. Лежит она теперь с
320
![]()
скорбно-сложенным ртом., снятся ей проклятые полена, падающие, как крышка гроба с черными гвоздями.
– Митю закопытили...
И няньку копытили век вечный.
«Пороли нас больно на конюшне, девушка, лупили за всякую малость...»
– А горчичник-то и забыли! – отлегло на сердце.
Мутно-кровавый глаз лампадки хмуро защурился.
– У-y... втуу-втуу...– завыло где-то.
И вместе с воем приползло тайное, что дом окутывало, – замелькала тайная жизнь матери.
«Барышня несчастная...»
«Заперлись: нездоровы...»
«За сороковкой барыне..»
«Цыц ты, кудластый, чего галдишь, дети услышат, мало што...»– Это для мамы...
Пьяницы не гниют, а только чернеют. Как уголь. Дядя Самсон почернел как!
И почему в театр не поехала?
Портниха Даша на Машу похожа.
Разоделась и не поехала. Напудренная, в брошке бриллиантовой.
У мамы книг много, какие-то журналы... скучные...
– Варенька, Варенька, подумай только, что про тебя скажут. Нельзя ехать с 3., и так уж говорят. Ведь я должна предупредить тебя: послушай, Варенька, если хочешь сохранить свое доброе имя...
И представляется, лежит Коля в гостиной на полу под диваном, неловко ему, и весь он скорчился. Пыль душит, а голос Палагеи Семеновны острыми иголками колет прямо в грудку, и плачет мать так жалостно...
Вот выскакивает он из-под дивана, бросается на Палагею Семеновну, цапается ручонками за платье, взбирается к ней на колени и грызет ей горло. А подбородок у нее трясется-перекатывается, мягкий и жирный, как индюшка. К губам пристает липкое, соленое, и красные пятна, густые пятна выплывают из всех углов, плывут на него... И хочется орать во все горло, разбить новый колпак, разодрать альбом, «Ниву», исковеркать стол, скатерть, но Палагея Семеновна, черная, поднимается на цыпочки, растет, вырастает, упирается головой в потолок и скалит оттуда страшные, острые зубы...
321
![]()
Коля свернулся в клубочек, кружится, мечется. Как крыса... Хочется проскользнуть в спальню... А ноги к земле прирастают... Цап!..
– Няня! няня!!!
– У-y... втуу-втуу...
Сердечко перестукивает. Губки вздрагивают.
– Когда буду большим, я все буду... пускай и мама все делает... Николай, угодник Божий! Большим буду... Завтра... завтра... Серым волком буду...
– Дуу-доон – Дуу-доон – Дуу-доон.
От звона вздрогнули стекла и зазудели.
– Не-ет – не-ет – не-еет, – заскрипели часы.
Засвистел свисток на фабрике долгий, со сна встрепенувшийся.
Вдруг вспомнился Коле мальчишка Егорка, попавший в маховое колесо...
Встал перед глазами, как тогда... извивался.
Подлетая-улетая, мелькал-пропадал Егорка на маховом колесе, как красный кусок сырой говядины... синие сплющенные лепешечками пальцы хватались за воздух; синие, красные, черные, желтые, серые дранки отщеплялись от тела... медный изогнутый крестик...
– А! а! ах!!! – Душат... ушат.. – заорала Прасковья не своим голосом: снились ей черти.
«Ходят они по ночам за мной: быдто этак комната, спальня, а они черненькие, в курточках крадутся...»
Кто-то провел по одеялу руками.
Коля немеет.
Это – Женя.
Женя постоял-постоял и пошел от него.
«Порченый!»
«Порченая девочка подняла за обедней подол, да в крест...»
Кощунствует...
И хочет остановиться, да не может. Все новые кощунства осаждают его.
Вдруг заметался: – Господи, прости меня! За «слава в вышних Богу» в другом приделе с Ваней Финиковым подрался, на престол садился, на мехах в алтаре чертиков рисовал, «стручки продавал»...
– Пи-и... пи-пи! – мяу-мяу... – запищали неистово котятки.
Подняли с постели бабушку.
322
![]()
– Окаянные! треклятые! – застонала бабушка.
Она отдирает от рубашки и от волос вцепившихся котят. Вытянулась костлявая, взлохмаченная. Седой, трясущийся хвостик на острой бороде. Выпученные, бледные глаза. Баба-Яга.
Зажмурился Коля, не шелохнется. Подушка – огонь – горячая.
Кто-то темный, огромный плывмя плывет...
– Баба-Яга.
– Ангел Хранитель! – скрестил кулачки, прижимает, – Ангел Хранитель...
– Дуу-доон. – Дуу-доон... Дон... Дон.
Жужжанье и шипенье монотонного храпа проникает в комнату.
* * *
Мать задула свечку и, шатаясь, повалилась на кровать, полураздетая, с назойливо-подплясывающими острыми, зеленоватыми крестиками в глубине воспаленного мозга. Заломила руки, разметалась. И ослабевшая свинцовая голова ее и переизнывшее, изъеденное сердце погрузились в чадный сон неминуемых бед и дразнящего несбыточья.
Вздохнула матово-зеленая лампа в Огорелышевском белом доме, задрожала и померкла. Навстречу ей зазмеился желтый огонек, поиграл и уполз.
Нервно вздрагивая, в мути табаку и утомления, озлобляясь на краткость жизненных часов, идет Алексей в спальню, где лежит болезненная жена, и болезненно-тяжкое дыхание тянется вокруг спящей.
И ему вспоминается, как в припадке женщина ест нечистоты, и он дрожит, поймав вдруг свою тень-образ в высоком, закачавшемся трюмо... И какая-то горечь пьет сердце.
На заплесненно-гноящихся, спертых спальнях и в душных каморках, несладко потягиваясь и озлобленно раздирая рты судорожной зевотой, крестясь и ругаясь, подымаются фабричные.
Осоловелые дети тычутся и от подзатыльников и щипков хнычут.
Сладострастно распластавшиеся с полуразинутыми слипающимися ртами, женщины и девушки упорно борются с одолевающим искушением ужасной ночи и с замеревшим сердцем опускают горячие, голые ноги на липкий, захарканный, загаженный пол, наскоро запахивая, стягивая взбунтовавшиеся груди.
323
![]()
Сменяется ночной сторож Аверьяныч и, обессиленный болями, с пеной на подгнивающих губах, сквернословя и непотребствуя, валится в угол сторожки.
Тянутся в Андрониев монастырь вереницы порченых и бесноватых с мертвенно-изможденными лицами, измученные и голодные, с закушенными языками, с губами растрескавшимися, синими без кровинки.
И о. Глеба, укрощающего бесов, ослепленного, с печатью остывших бурь пучины греховной, ведет под руку из белой башенки дылда-послушник, отплевывающийся от сивушной перегари вчерашних попоек.
И в сером промозглом, заиндевевшем склепе Огорелышевых последний червяк слепо грызет и точит последнюю живую кость деда.А там, за вьюжным, беззвездным небом, нехотя пробуждается серое, старушечье утро и сдавленным, озябшим криком тупо кричит в петухе, очхнувшемся на самой верхней жерди.
А там, на скользкой горке запорошенного пруда, крохотный бесенок с ликом постника неподкупной и негодующей человеческой честности, по-кошачьи длинно вытянув копыто, горько и криво смеется закрытыми губами.
Кружится-крутится, падает снег, кружится, падает старый, темный снег на темную, в яви полусонную, уродливо-кошмарную жизнь... непонятную.
V
Как пришла весна, пришла громкая с ручьями пенными, певучими, с небом голубым ласковым, с солнцем смеющимся; как почернел сад, раструхлявились гнезда, и пруд стал серым, болезненным – всеми лежал покинутый, с одинокими, забытыми льдинами, с проломленным глазом – прорубью; как запел монастырский колокол звонче и переливчатей о полдне и полночи, – тогда целыми днями, только придут дети из училища, сейчас же на двор: колют, рубят, метут, чтобы к Пасхе ни одной снежинки не держалось.
А вечерами идет игра в «священники большие и маленькие»: сооружают из столов и стульев престол и царские двери, облачаются в цветные платки и разные тряпки, служат всенощную, обедню; в «маленьких же священниках» все дело просто в деревянных кубиках: из кубиков строят церковь со всеми приделами,
324
![]()
теплыми и холодным, как у Грузинской, и они же представляют священника и дьякона.
Не пропускали ни одной службы.
Иногда так не хотелось, особенно к ранней обедне.
– Дрыхалы, оглашенные, – подымает Прасковья, – не добудишься, быдто напущено.
А еще только перезванивают: не начинались часы.
Когда же возвращались из церкви, то, при всех увертках, не могли миновать Алексея: он уже встал, сидел в кабинете, и в окно ему видно было, кто по двору шел. Подзывал, придирался, выговаривал.
Особенно попадало на Страстной.
Но как хорошо тогда было!
Пономарь Матвей Григорьев, черный, как нечистый, то и дело выходил на церковный двор.
– Олаборники, – брюзжит, – батюшка увидит.
Батюшка увидит... да он такой старый, едва ноги передвигает, пойдет он смотреть!
Пономарь скрывается:
– Останавливай – не останавливай – ничем не проймешь.
На церковном дворе стояла нежилая будка. Когда перестраивали церковь, иконописцы изобразили на потолке этой будки соблазнительную картину. И тут-то под сенью непонятного еще,притягивающего соблазна, творилось нечто, уму непостижимое.
Приедалась будка, – вламывались в церковь.
И церковь оживала.
Ване Финикову, сыну просвирни, Агафьи Михайловны, читавшему в первый раз на амвоне «слава в вышних Богу» и облеченному по сему случаю в семинарскую длинную чуйку, пришпилили сзади оттопыривающийся, фланелевый хвостик.
На Вербное, во время раздачи вербы, хлестались не только друг с другом, но и с посторонними, взрослыми.
– Верба хлес – бей до слез!
В Великую Среду за пением «Сеченная сечется» Коля такое сотворил – до батюшки дошло... Сырая шляпа Финикова по рукам ходила. Охали, ахали.
– Ах ты, дьявольский сынок, не будет тебе ужотко причастия, – пугал батюшка.
Коля стоял у Креста на коленях и, выкладывая положенные сорок поклонов, еле удерживал слезы и от стыда и от душившего хохота.
Но, не сделав и десятка поклонов, улизнул от Креста.
Всю остальную службу на глазах в алтаре, делая вид, что мо-
325
![]()
лится, он страшно скучал. Саша, Петя: и Женя возились на колокольне.
И вот совсем не по уставу, зазвонил неумело и срыву большой колокол, и полная церковь напуганным стадом шарахнулась к паперти.
– Дойдет до благочинного, – ни черта путного, олаборники!
На двенадцать евангелиев, выходя с горящими свечами, тушили огни у прохожих.
– Душа моя, Коко, – наставляла после бабушка, – Бог тебя накажет. Да нетто в законе Божьем это сказано? – Иуда ты я Варфоломей Искариот, помолись ангелу своему и покайся. Ни росту, ничего не даст тебе Владыко Господь, и останешься ты курносым до скончания веков...
И наступил Светлый День.
Словно выросли, преобразились. И плохенькие одежонки выглянули новыми и нарядными. В заутрене вся жизнь была, ждали годом и, что бы ни делали, помнили: вот Пасха, Пасха придет!
На паперти жгучий стыд заливает сердце и личико Коли: со всех сторон тянутся дрожащие руки, и провалившиеся рты гнусят: «Колечка, дай копеечку! Колечка, Христос воскресе»! И навязчиво идет запах гнили и промозглого немытого тела, и все эти лохмотья вздрагивают от утренника.
– А я вон, нарядный, иду разговляться! – и жутко представить ему, что они такие: нет дома у них, нет пасхи белой с крестами и яркими цветами; и все же представляет до боли ярко и тут же рядом видит себя в нищенской рвани без дома, без пасхи.
– Неужто это будет когда? – Страшно.
Он вынимает из курточки все свои новенькие копейки, подаренные и украденные, и сует в заскорузлые, посиневшие руки, ловящие руки. А копеек так мало.
И мглистое, сероватое утро с собирающимся снегом перекликается одиноким перекликом запоздалых, растянутых обеден.
* * *
Прямо из церкви шли поздравлять дядю.
С замиранием сердца, со страхом до потери голоса вступали в белый дом.
Еще на Прощеное воскресенье, когда, бухаясь в ноги, положенно приговаривали: «Простите меня, дядюшка, ради Христа!» – была большая проборка.
Теперь, когда, робко прокравшись по парадной лестнице, во-
326
![]()
шли в кабинет и каждый еле слышно произнес затверженное: «Поздравляю вас, дядюшка, Христос воскресе!»
– Болваны, – не глядя рычал Алексей, – чаще драть вас, – вот что! И ты! и ты! – лентяи, дармоеды. Тебя, Петька, выдеру, призову рабочих и выдеру: ты у меня забудешь трубку! А ты, курносая гадина, чего рот разинул? И ты, дурак, туда же. Жмутся, ежатся, молча опустив осоловелые глазенки.
– Ну, марш, отправляйтесь!
Кубарем скатываются с лестницы и бегут вприпрыжку по двору наверх, где ждала-дожидалась бабушка, Маша, нянька.
Особенно Коля не любил Алексея: обидел тот его совсем крохотного.
Вела его Прасковья по двору гулять, встретился дядя. Коля и протяни ему ручонку...
«Ты, мальчишка, смеешь мне руку совать! Забываешь, кто ты: на наш счет живешь!» – затрясся дядя, а голос издавал странные звуки: казалось, кошка, кошке долго и пристально наглядевшись в глаза, отпрыгнула вдруг, ощетинилась и взвизгнула.
И у Коли тогда задрожали губки, и кусать, рвать хотелось неистово, бешено...
Славят Христа на весь дом, христосуются, а с Машей несчетно раз.
После вечерни приходят батюшки.
Матвей Григорьев, едва держась на ногах, толкует каждому, будто «пупок у его не на животе, а на спине, этак!» – и, странно изгибаясь, не открывая рта, посмеивается.
За закуской батюшка пробирает Петю за трубку, хотя трубка– общая.
Курили до зеленых кругов и тошноты.
Так как на копейки съедалось в стаканчиках мороженое и покупались «грешники», то приходилось курить тот табак, которым перекладывалось зимнее платье.
Оканчивается миром.
– Ну, Христос с вами, – гладит батюшка по головке, – Пресвятая Владычица Грузинская,'– малыши вы махонькие, неразумные.
Мать беззвучно плачет, загрызает ногти, мясо у ногтей. Жалуется.
– Ах, Господи, Господи! Потерпите... Варвара Павловна.... Христос.. Несите крест...
– Да они, они... они... жизнь мою... я...
327
![]()
Под ночь бывало грустно: прошел Светлый день.
– Если б всегда была Пасха!
– Должно быть, в раю только.
– И умереть, говорят, на Пасху хорошо, прямо в праведники. Дедушка на третий день издох...
– Экзамены скоро.
А в крышу постукивают мутно-зеленые капли первого теплого дождя, красящего сухую, седую траву и черный пруд.
Дьявол, пролежавший всю ночь в грязной канаве, забрался теперь в купальню и, сладострастно хихикая, зализывал вскрывшиеся, теплые раны.
И лягушки, выпучив сонные бельма и растаращив лайки, бестолково заквакали.
И стала земля расправляться и тучнеть, и все семена жизни зреть стали, наливаться, изнемогая, задыхаясь в любовной жажде.
Зарею нежные травинки, голубые первые подснежники, как хор девушек-девственниц с тайно подступающим красным зноем, – благовестницы грядущих невест, взглянули на восходящее солнце, на Христа воскресшего.
VI
Алый и белый дождь осыпающихся вишен и яблонь.
Замирающий воскресный трезвон.
– Эй, плотнички лихие, работай!
И, наслаждаясь, налегают на тяжелые лопаты, и тугая земли ломается.
Рубашки и штаны испачканы, руки грязные, темные. С самого утра на огороде перед домом копаются. Чертенята маленькие.
Прошли экзамены.
Перешел и Петя, а Женя и Коля поступили в гимназию.
– Как стемнеется, за досками пойдемте: шалаш надо, без шалаша нельзя, – Саша, как заправский землекоп, поплевывает на руки, – или берлогу выкопаем в двадцать сажен, чай пить будем, кровать поставим. У Захаровых вон берлога в пятьсот сажен; Васька говорит, музыка играет.
– И глубже выроем, свой пруд выроем!
– А на той стороне кизельник зацвел.
– Пожрём.
«Та» сторона – часть сада к Синичке. Там растут старые яб-
328
![]()
лони и «кизельник». Невзирая на бдительный надзор, к Ильину дню – ни яблочка, ни ягодки. Шелушат по ночам, а чтобы запугать сторожей, хлопают в ладоши, будто лешие.
«И сад и пруд – проклятые, – идет молва, – нечистый ходит. Намедни пошел в караул Егор-смехота, а из пруда – рожа, да как загогочет – инда яблоки попадали. Подобрал полы, да лататы. Душка-Анисья богоявленской кропила, насилу отходился. А Егор-то ведь во, – смехота!»
Когда же ловили, приходилось плохо. Да им как с гуся вода...
– Палевый вчера улетел, – говорит Коля, – остался один чернопегий. И подсеву нет.
Он работает лениво и не так пачкается, как другие.
Голуби – общие, но Коля чувствует к ним особенную нежность: и тайники и приманки выдумывает, и чтобы потеплее было. Петя гоняет: залезет с шестом на крышу и посвистывает.
В праздничный день обычно отправлялись дети с голубями на птичий базар. На базаре торговались и обменивались или просто слонялись, вступая с торговцами в препирательства, задирая бахвальством и плутнями.
К голубям пристрастил детей старичок-приказчик.
Жил старичок на дворе на покое, дела у него хозяйского не было, разве вечером когда сразится в шашки с самим Огорелышевым и только. Все же остальное время проводил он с птичками.
Занимали птички всю его квартиру, чахли и гадили, а петь не пели.
Дети часто забегали к нему, любопытствовали, а он медленно, отщипывая то и дело понюшку, рассказывал о каждой породе, представлял голоса, ставил примерные силки и западни и нередко случал пичужек в надежде иметь яички.
Уж очень хотелось старику маленьких птенчиков повидать, выходить птичек: авось запоют!
Без озорства и тут не обходилось: к великому огорчению птицелова птички как-то сами собой открывали клетки и, несмотря на двойные рамы никогда не отворяемых окон, вылетали на волю.
А какая у них голубятня была! Теперь совсем уж не то...
Пронюхала про голубей Палагея Семеновна.
Занегодовала: «Варенька, Варенька, да они ведь у тебя голубятники, это невозможно».
И Бог знает, с какими целями, вызвалась посмотреть голубятню.
Высоко задирая юбки, взобралась по трясущейся крутой ле-
329
![]()
стнице к слуховому окошку мезонина и, наступал на теплый помет, готовилась наставлять...
Но детей на голубятне не оказалось, да не только детей, и лестницы.
Поморили они ее, наоралась вдосталь.
Была после потасовка немалая. А голубятню сломали.
* * *
Солнце, между тем, осмотрев все закоулки двора и тинистый берег, идет на самую середку пруда греть старых усатых сазанов, ледяные ключи палить.
Бросают лопаты и обедать.
Приходит Филиппок, коренастый, Черномазый, взъерошенный мальчишка-сапожник.
Филиппок был искусник немалый: мастерил из кожи разное оружие, ордена и медали.
Начинаются разбойничьи игры. Русско-турецкая война.
Что ни попадет под руку, – летит вверх тормашками: стекла и куры, скамейки, цветы, дрова, собаки, лопаты, цыплята.
Глядишь, там кто-то и в пруду бултыхается.
Не ходят, а носятся в бумажных и кожаных орденах, с подбитыми глазами, исцарапанные.
– Вольница, – удержу на вас никакого нет, – оглашенные.
Вот будто город в огне. Осажденные, озверелые от голода и тревог, рвутся под бьющей бедой в стенаньях, в проклятьях.
Толпы тонут в волнах; а над головой свистящие пули – отходные молитвы.
Бегут, бегут... По пятам черный дым и адский грохот. Впереди кругом топь крови.
Вот лопнет сердце, вот дух захватит.
Ну, еще, еще!
И крик взрывает сад, и из трубы, выпыхивающей клубы седого дыма, кричит навстречу неумолимо-резкий, страшный крик: бей! бей! бей!
– Дяденьке пожалимся! – и острые пальцы управляющего вдруг вонзаются в ухо и больно выворачивают мягкий хрящ.
– Андрей-воробей! Андрей-воробей! – запевается хором; хор кружится, и проворные руки то и дело салят дьявольскую фигуру с крючковатым носом, на котором торчит сухой конский волос.
Согнувшись, проходит управляющий к фабричному корпусу, наводя страх и порядок.
330
![]()
«Со свету сжил, дьявол, – роптали по двору, – лизун огорелышевский, шпион, подхвостник. Найдет на тебя полоса, хлебнешь из пруда...»
Идут в купальню. До дрожи, тошноты ныряют и плавают. Ни одного сухого местечка. Одежа свертывается, как выполощенное белье.
Теперь на навоз, на ту сторону. Навоз разрывают, выкапывают белых жирных червей и, набрав полные горсти, раздавливают по дорожкам...
А когда пресыщаются, начинается ловля лягушек. Наводняют полную кадушку под желобом и, вытаскивая по одной, истязают-потешаются: отрывают лапки, выкалывают глаза, распарывают брюшко, чтобы кишки поглядеть.
Квакают-квакают лягушки во всю глотку.
– Ай! нагрешники! – спохватывается Степанида. – Всю-то мне воду опоганили.
Долго возится с кадушкой, вылавливая левой рукой скользкие внутренности и лапки.
Все пальцы у детей обрастали за лето бородавками, возникновение которых приписывалось лягушкам.
«Это от ихних соков поганых», – объясняла Прасковья.
Зато большое было удовольствие, когда после каникул принимались за сведение бородавок.
Мазали пальцы теплыми куриными кишками, кишки зарывались в землю, – так сводились бородавки.
Бросают лягушек. Отправляются на качели.
Выпачканные червями и лягушачьими внутренностями, липкие, качаются-подмахивают до замирания сердца, взлетают за фонарь до маковки березы, – вот, вот перелетит доска за перекладину...
Потом лазают по качельным канатам, жмурясь и вздрагивая от наслаждения сжимать ногами упругую, щекочущую веревку.
И, добираясь до самого края, вверху у колец задерживаются, как маленькие обезьянки.
Вечереет. Раскаляются за монастырем закатные тучи. Черные, длинные тени плывут по пруду, купаясь в бьющемся, кипящем золоте.
Подымаются, сложенные за террасой шесты, обитые вверху тряпками – знамена и хоругви, – трогается торжественный крестный ход: избиение младенцев.
Сажей и кирпичом вымазанные лица и руки. Коля на длиннейших ходулях в белой простыне. А жертва уж и мечется и визжит...
331
![]()
– Машка Пашкова – Машка Пашкова... – монотонно, речитативом поет хор, преследуя, гоняясь за девочкой.
– Шран-трибер-питакэ... Машка Пашкова – Машка Пашкова...
Затравленная девочка камушком влетала в каморку, забиралась в колени к отцу и дрожала, как листик.
Отца Машки дети боялись.
Трезвый не страшен, но когда наступал запой, Павел Пашков свирепел.
Бледный, со впалою грудью, бегал слесарь с ножом по двору, искал зарезать детей.
Дети в такие дни прятались в самые засадные места и только когда Пашков, обессилев, валился где-нибудь у помойки с окровавленными руками, с слипшеюся прядью бурых волос на закопченной голове, – они выходили из нор.
Машка Пашкова – Машка Пашкова...
В заключение – бабки. Бабки-салки, кон за кон, ездоки, плоцки... И переменная драка. Тут каждый друг перед другом соперничал. Лупили друг друга чем ни попало.
Бьет восемь.
В сад выходит дядя Игнатий с книжкой и биноклем.
Хоронясь, забираются под террасу и на корточках в темноте и сырости слушают Филиппка.
По описании мастерской и хозяина рассказывается вечно одна и та же сказка о «семивинтовом зеркальце».
Другой Филиппок не знает.
Непечатная сказка, такая забористая, и слушать ее, хоть сто раз прослушаешь – никогда не надоест.
Спадает жара.
Убирается Филиппок восвояси.
Выходит ночь, идет ночь в черном саване, в полыхающих зарницах, молодых звездочках.
VII
Черный свет пробирается сквозь стекла закрытых окон, ползет в детскую.
Нагорая, колыхаясь, плывет перед образом Трифона Мученика крещенская свеча.
Где-то за потолком, высоко над крышей, в бездне черных
332
![]()
дрожащих капель ворчит и катается страх – страшное, безглазое чудовище.
Мучается, стонет Петя. Голова забинтована тяжелым бинтом.
Женя, уткнувшись лицом в подушку, плачет темным плачем, больной жалобой.
Входит и уходит нянька. Поджатые, поблекшие губы шепчут...
– Господи, Господи!
В спальне внизу хлопает форточка. Хлопнет, подождет, хлопнет...
Сжавшись, сидит у окна Коля.
Вздрагивают до крови искусанные губы. Сухо и горько горят темные глаза в выжженных слезах.
Над монастырем распахивается и мгновенно закрывается ярко-белая, белая пасть.
Пороли Колю, больно пороли в спальне, перед киотом.
Взяли они его обманом. Позвала нянька новые штаны померить.
Поверил Коля, быстро стащил свои старенькие... И началось.
Держал Кузьма, стегала ремешком Прасковья.
– Не будешь?
– Буду.
Где-то в сердце на самом дне бурлит и не может подняться олово слезное.
– Ой! – вскрикнул Петя, заерзал, стих.
И встал среди затишья печной и душный прожитый день.
Никогда еще не дрались так, как этим вечером.
В свалке Коля хватил Петю свинчаткой. У Пети от боли глаза закатились, брызнули слезы вперегонку с кровью.
На песке лужа, как пролитая красная краска.
– Свинчаткой прямо по голове так и попал, тяжелая... Вот тебе! – мучается Коля.
Белые стрелки забороздили темь.
И сорвалась гора чугуна, рассекла полнеба, грохнулась, раскатилась над головой и разбежалась тьмой глухо-звучащих, железных шариков...
Зачем он обидел Женю, разве не знал, что у Жени глаза больные?
Заплакал.
– Горсть песку... Песку, да в глаза... А Женя говорит: «Я тебя, Коля, – говорит, – дразнить не буду», – говорит...
Коля потихоньку приотворяет окно.
Высовывается...
333
![]()
– Пускай меня гром разразит! – надрывается сердечко.
Тянется...
– Исш-и-и-и.... сс-ссш... – шепчутся, свистят в ответ листья.
Перестает дождь...
Вдруг онемел от отчаяния и, закусив судорожно палец, зубами крепко, крепко сжал его...
– Уф!
И какая-то огромная, черная свинчатка ударяется ему в грудь: красный, заревной свет хлещет по ногам, хлещет по лицу и идет, уходит в голову и там крутится, и потом расплывается легко и мягко.
Коля валится без памяти.
Кропя богоявленекой водой, нянька и Саша берут на руки полуживое тельце Коли и несут на кроватку.
По полу дорожка густо-красных капелек.
Тикают, ходят часы.
И кто-то маленьким пальцем все стучит, стучит в разбитое окно.
VIII
Женю и Колю перевели из гимназии в коммерческое.
Несколько лет назад по мысли Алексея было основано это образцовое училище, за что получил он какие-то важные звезды.
Старались друзья, над которыми тот втайне немало смеялся.
Первым другом Алексея слыл князь, большой покровитель Огорелышевых.
А про князя молва ходила, будто он все может.
Да и князь не раз хвастал, что город – его город, а кто перечить станет, того с земли сотрет – мокрого места не останется.
Женя числился на стипендии, за Колю платил дядя Николай Павлович.
Не давался детям русский диктант: ошибка на ошибке.
Большая была нахлобучка от дяди. Велено было дома диктанты писать. Петя, бравший из библиотеки романы, диктовал, выбирая самые отборные места. Как-то случайно попался Толстой.
Учитель, проверявший домашние работы, доложил совету.
Поведение сбавили.
Теперь, хотя и перевели обоих в третий класс, но с большим предупреждением.
334
![]()
Коле наступало одиннадцать.
Лето принесло новую жизнь.
Сеня, сын Алексея, закончил свое образование, прицепил к жилетке золотую медаль и задумался о развлечениях.
Пока что остановился на кеглях: плотники соорудили помещение за сараем, недалеко от дров.
К великому неудовольствию отца и дядюшки-англичанина Сеня сблизился с двоюродными братьями.
А раньше Сеныса-гордецов, как прозвали мальчишку фабричные, пробегал по двору, не ломая ни перед кем шапки.
* * *
Кегельбан открывается вечером.
Женя и Коля ставят кегли» Сеня, Саша и Петя играют.
Первые партии проходят подсухую: увлекает новость. Но, когда постиглась тайна, заскучали. Появилась корзина пива, а за пивом шампанское.
По окончании игры забирают кульки, перелезают через забор в Воронинский сад.
Другая игра: заговаривают, подсаживаются, подпаивают...
Все та же Варечка, гимназистка» в которую когда-то был влюблен Петя, и ее две подруги: Сашенька и Верочка.
Сеня и Саша, урывками Петя – играют главную роль. Женя и Коля, семеня вокруг старших, надоедают, мешают.
Кроме любопытства Колю мучает ревность. Целая тетрадь дневника исписана горькою жалобой, и каждая страничка посвящена Верочке, и нет строчки без ее имени, дорогого и страшного, первого имени. И никакого-то внимания...
Если приезжают из имения дети Николая Павловича, барышни не появляются, но Финогеновы и Сеня не пропускают часа и вторгаются в сад.
Дух поднимается.
Начинают стихами Пушкина, декламируют на весь сад, во все горло; потом, когда показываются бонны, гувернантки, тетка, Палагея Семеновна, приятельница тетки, и дета с голыми ляжками, – книга складывается, трогается процессия.
Впереди Коля – на голове красный кувшин с квасом, за ним.
Сеня, Саша, Петя, заключает Женя с шестом-пикою, на маковке которой трясется червивая, дохлая курица. Вид нагло-дерзкий, не кланяются.
Охи и ахи. Кто ж их знает?
335
![]()
И в ужасе бонны тащили детей в комнаты, а то не ровен час; от одного вида Огорелышевцев дети могли испортиться.
* * *
– Вот, что, Семен, – грыз ногти Алексей, – предупреждаю тебя: до добра это не доведет, – не связывайся, понимаешь, еще и не тому научат...
Несколько вечеров придумывали мщение: никто другой, как Палагея Семеновна насплетничала. Думали, думали, – написали ей некролог, положили в огромаднейший конверт, запечатали пятачком и отослали с Кузьмой.
Некролог открывался колокольчиком. Колокольчик-сплетня.
Очень обиделась, а виду не подавала: не будь там Сени...
У Финогеновых же с тех пор ни разу ноги ее не было.
* * *
Вечер обычно заканчивался несуразно весело, по-Огорелышевски.
Выходят из главных ворот, идут посередке улицы. Сеня и Саша басами читают паремии, которые заключаются хором – общим выкриком последнего слова: «И приложатся ему... лета живота-а-а!!!»
Остановить никто не решается: ни городовые, ни околодочные.
– Огорелышевцы! свяжешься, – нагорит еще.
Так, обогнув Синичку, доходят до красных ворот Финогеновых.
Тут рассаживаются на лавочку. Выходят фабричные.
И начинаются россказни о житии дедушки и дядюшек. А от них – за сказки.
– Покойный дедушка ваш, хрену ему... – приступает кузнец Иван Данилов, – перед кончиной живота своего призвал меня и говорит: «Сын ты сучий, отлупи ты, говорит, мне напоследях какой ни на есть охальный рассказ, али повесть матерную!» – а сам едва дыхает, расцарапый ему кошка... Так-то вот. Ну, о пчеле, что ли?
– О пчеле! о пчеле! – от нетерпения трясется вся лавочка.
И сказка начинается.
– Жила-была пчела. У пчелы было три улья. Д-да. В одном улье спала. В другом........В третьем мед таскала. А как выпустит жало со свинячье кало...
336
![]()
И пойдет, инда жарко станет.
Кузнеца сменяет городовой Максимчук малороссийскими, а в заключение ночной сторож Аверьяныч, расползающийся старикашка с трясущимися ногами, умиленно и благодушно, как молитву какую, изрыгает сквернословие-прибаутки.
И чутко глядит монастырь белыми башенками. Выплывает из-за колокольни теплая луна – без стыда в своей наготе; и в тишине ее хода поют одинокие, седые часы; и где-то за прудом громыхает чугунная доска, и где-то за прудом Трезор и Полкан мечутся на рыкале.
Сам черт заслушался! вон он, ленивый, раскинул синие крылья, темные во млеющих звездочках от края до края по тихому небу.
IX
На крутом обрывистом холме, окруженный крепкой белою стеной, стоял Андрониев монастырь.
Там не было камня, не затаившего в себе следов далеких времен.
Вон к подножию остроконечной башенки с резным оконцем, где некогда стонал застенок, – теперь келья схимника о. Глеба, – лезет, упирается каменная огромная лягушка, растаращив безобразные лапы – дьявол, проклятый св. Андроником.
Когда толпа окружает лягушку, сколько ртов плюют, норовя в самую морду.
Бедный человек!
Бедное лицо, оплеванное человеком!
А вон на золотом шпице петушок с отсеченным клювом, ржавый петушок, прокричавший хулу... А вон заклятый пужной колокол с вырванным сердцем – черным языком, а вон след... следы нестираемых пятен.
Тени и призраки казней.
Тени погибших желаний, задавленной воли... непреклонной воли, видений... бесов и ангелов.
Монастырь – первоклассный: мощи под спудом, архиерей, огромные вклады.
Братии немного. Поигрывают, попивают, заводят шашни, путаются.
Эконом ворует, казначей ужуливает. Речи и помыслы – «кружка», «халтура», «проценты», «лампадка». Много из-за этого ссоры, много и драки и побоев.
337
![]()
Ворота запираются в девять. Привратник – кривой монашек «Сосок». За каждый неурочный час берет по таксе.
Покойники смирные, лежат себе под крестами и памятниками, разлагаются, гниют и истлевают; правда, о. Никодим «Гнида» рассказывал за иермосами, будто сам дед частенько выходит из склепа белый и с ножом бегает...
Ну, то Огорелышев!
И все хорошо, благолепно, как по уставу писано.
* * *
Когда уехал за границу Сеня, а с ним навсегда закрылся кегельбан, навсегда прекратились посещения Воронинского сада, – участились походы на монастырь.
Из всей братии полюбились двое: иеромонах о. Иосиф «Блоха» и иеродиакон о. Гавриил-«Дубовые кирлы».
О. Иосиф – черный и пронырливый, продувной и нахальный – приманил лакомствами и сальностью.
На первый Спас к меду и огурцам поднес такой наливки – кагор, пиво, запеканка: все вместе, – Коля ползком выполз, да и остальные нетверды были.
Рассчитывал на огорелышевскую лампадку.
Навязался к Финогеновым и повадился. Приходил не один, приводил подручных, чаще о. Михаила-«Шагало» – мешковатого, тупого, волосатого иеродиакона. Приводил с одной целью потрунить и поскалить зубы.
Бывало, выпьют самовар, выпьют другой – пьют на спор, кто больше.
Седьмой пот пробивать начнет.
– Достаточно, – отмахивается о. Михаил, опрокинув и крепко облапив стакан, – достаточно: неспособен...
– Неспособен, говоришь, – подхватывает Оська, – а пололка!?
– Чего пололка!?
Оська фыркает:
– Неспособен... ай да неспособен! – и говорком: – Вся капуста на огороде вытоптана, с Аниской знать...
О. Гавриил – тучный и красный, писклявая фистула, добродушие необыкновенное и непроходимая глупость, – взял своею потешностью.
Келья его – жилой сарай: сломанная клетка, облепленная жирным пометом; продырявленные ширмы и засиженная мухами, в масляных пятнах, занавеска; истоптанные штиблеты и ры-
338
![]()
жие, промякшие от бессменной носки, сапоги; заржавленные перья; изгрызанные побуренные зубочистки; лоскутья, тряпки-рясы, худое белье; часы без стрелок; ножи без рукоятки; рукоятки без клинка.
Ничем не гнушался.
Всякое воскресенье, всякий праздник обедает у Финогеновых.
Ест удивительно помногу. Выпивает. После третьей лицо вспыхивает таким жаром, – сало проступает. Не доев своей тарелки, сливает остатки из других. Если ему мешают, обижается.
– Я тебя, – пищит, оттягивая слова, – я тебя, душечка, объел, я тебя, Сашечка, объел?
А дети хором в ответ:
– Ты меня не объел! Ты меня не объел!
– Я тебя, Колечка, объел? – не унимается о. Гавриил и, увешанный прилипшей к бороде капустой, хлебными крошками, соловея, растопыривает жирные пальцы над своей, над чужими тарелками: – У-y, пчелочка-заноза Колечка! пожрут они, тысячи... Мартын – Задека – Женечка,.. Я тебя объел, я тебя?..
– Ты меня не объел! Ты меня не объел!
Несмотря на то, что возраст детей не ахти какой, – старшему Саше минуло пятнадцать, о. Гавриил не на шутку беспокоился.
О. Гавриилу мерещилися женщины, тысячи, миллионы женщин, которые пожрут и иссосут... которые уж пожирают и сосут детей.
На ужин уносит с собой полный судок, куда сливается ботвинья и суп, где торчит обглоданная ножка курицы и мокнут разбухшие куски черного хлеба.
По понедельникам через неделю ходят в баню.
Берется номер. И творится там нечто невероятное...
Моются час, моются другой. За дверью начинают просить, угрожать: требуют очистить номер.
Не тут-то было!
О. Гавриил выскакивает нагишом и, извиняясь перед ожидающими, что является без галстука, просит повременить.
Проходит долгий томительный час.
Стучат.
– Деточки не готовы еще! – отвечает писклявый голосок.
Тогда хозяин, все незанятые банщики, дворник, извозчик со двора и кто-нибудь из публики, – всем собором вторгаются в номер, и номер с хохотом, бранью, насмешкой, смешками, наконец, очищается.
И так каждый, каждый раз.
После бани – игра в быки.
339
![]()
С визгом и криком враз бросаются на о. Гавриила, а тот, нагнув голову и раскорячив ноги, машет, размахивает руками, будто рогами. Пока не грохнется, тяжело дыша, его грузное тело, и не одна нога пнет и топнет в медленно подымающийся мягкий живот...
Как-то разыгрались, а все хотелось еще и побольше. Случилась в детской Прасковья. Не мигнув, бросились, сорвали с нее юбку, кофточку. К о. Гавриилу, – и с ним то же. Погасили свечку, заперли. Да вниз.
– Батюшка, – плачущим голосом, корчась в одном углу, просила Прасковья, – о. Гавриил, пройдись ты маленько, ноги у тебя затекут... не гляжу я.
– Матушка, – пищал в другом углу, отдуваясь и крепко сжимая ноги, о. Гавриил, – Прасковья Семеновна, пройдись ты сама... У! пчелочка-заноза, Задека, Сашечка...
Битый час высидели, поплакались.
Было и повторение. Только вместо няньки сидела нагишом горничная Маша.
* * *
И в самом монастыре без озорства не проходило дня.
О. Геннадию – «Курья шейка» подали на обедню поминальную записку с новопреставленными, имена которых по необычайности нелегко было прочесть. Иеродиакон путался, перевирал, запинался. А о здравии стоял: болярин Каин.
Преосвященный о. Григорий «Хрипун» очень пенял потом своим вставным серебряным горлом и строго наказывал: не читать впредь таких несообразностей.
В наказание лишили о. Геннадия на воскресенье служебной кружки.
И все эти ухарства и проделки сходили ни за что.
Дети часто по неделям живали в кельях, ставя вверх дном все то внешнее благолепие, каким держался монастырь.
И братия как-то шалела, откалывая коленце одно другого чище.
Хохот звонил звончее печальных колоколов, и заунывное пение терялось в смехе и звонких песнях.
На площадке у собора по вечерам играли в бабки, за «палочкой-выручалочкой» прятались в склепах, таскали кости и черепа покойников.
Был в монастыре малюсенький, безобидный иеромонашек о. Алипий-«Сопля». Заплывшее жиром лицо, подслеповатые гла-
340
![]()
за, грива волос на толкачике-голове, и бородища но пояс. Ничего его так не занимало, как бабы. При одном упоминании пьянел. А когда принимался рассказывать свои истории – захлебывался и хихикал странно горлом, акая. Руки у него мокли. А лицо горело-лоснилось в каких-то отвратительных пятнах. Пить не пил, но и не отказывался. Хмелел с первой.
На именинах о. Гавриила большое было угощение. Главное – перцовка, специально настоянная и предназначенная, как говорил именинник, для низких душ.
Мгновенья не прошло, залепетал о. Алипий и с ног.
Сонного иеромонаха положили за занавеску. И заработали ножницы. Пока не остался жалкий козий хвостик на месте бороды...
Наутро в церкви не смеялись, не хохотали, а стоном стон стоял. Петь не могли.
– Убирайся вон, – хрипел преосвященный на беспомощно потягивающего свою бороденку о. Алипия, – убирайся, пока не зарастет... – Беспокоите вы меня.
* * *
Вскоре пожелал познакомиться с детьми о. Глеб.
Дети избегали схимника.
Белый крест и белые письмена – «святый Боже» – глубоко спущенной на глаза схимы – мертвые кости поверх черной гробовой крышки, и багровые ямы – взор черной тьмы – провалившиеся глаза, и странно-белое лицо мученика, и резкие, острые морщины от заострившегося тонкого носа к углам заплаканного рта, и то, что вздрагивали скулы, и то, что сводились пальцы, и то, что руки вдруг ловили что-то около носа, ловили невидимое, каких-то мух, и сокрушающая сила – удары молотов – в безбрежно-тихом, скорбящем шепоте, когда произносил молитву – заклятие бесам, – ужасало и отпугивало.
И дети уперлись. Согласились только потом, но чтобы непременно с о. Гавриилом.
День пролетел невыразимо занято. Утром приехал к о. Гавриилу канонарх из Лавры Яшка-«Слон», известный непомерной огромностью всех своих членов.
– Низкая душа, – таинственно рекомендовал о. Гавриил гостя, – хобот – уму непостижимо, от обера, душечка, есть воспрещение ему сноситься...
«Слон», нахлеставшийся перцовкой, валялся в беспамятстве за занавеской.
Тотчас же все сосредоточилось на спящем.
341
![]()
Надо было во что бы то ни стало добраться до хобота.
С помощью о. Гавриила «Слона» обнажили, и началась «разборка планов».
Сонный визжал, григотал, захлебывался.
Протрезвили канонарха. «Слона» вогнали в краску.
– Низкая душа, – бормотал запыхавшийся о. Гавриил, – деточкам в удовольствие...
Ушел канонарх.
Садилось солнце.
Вдруг спохватились.
И страсть не хотелось идти, да неловко.
И вот вошли они в башенку после вечерни.
Гомон на угомон шел. На лестнице уж поджидала ночь.
Вошли они, скорчившись, дикими, голоса потеряли.
Молча подошли под благословение.
Старец благословил. Благословил и засуетился, будто оробел не меньше.
О. Гавриил скрылся самовар ставить.
Никто не сказал ни единого слова.
Тесная келья была полна странных, таких отчуждающих призраков, заглушающих слово – борьба, крик легионов. Тесная келья – пустыня: она не отзовется и не спросит.
– Батюшка! – просунулось красное лицо о. Гавриила в узкую дверь кельи, – о. Глеб! да он у вас, батюшка, с течью...
– Тащи свой! – замахал старец руками, - тащи, пузатый!
И сразу стало легко, будто так давно, так близко знали и видели друг друга. Что-то верное скользнуло, обняло и согрело.
Пошли дети ходить по келье, пошли копаться в книгах, трогать все, что ни попадет под руку. Залезли на окно, заспорили:
– Нет, вон он Сахарный завод...
– Фабрика!
– А там «антихрист» в банке, а там вон...
Старец сидел в кресле, о чем-то думал. Был он теперь обыкновенным, своим, тем, о чем так вспоминают после, когда уж вернуть невозможно.
И когда о. Гавриил и его пузатый самовар, пыхтя и отдуваясь, наполнили келью, и когда бронза будто расплавилась под проникшим густым, прощальным лучом, и дети закрыли грудью весь стол, – погас взор черной тьмы на лице старца, и засветились тихие глаза, перегорюнившиеся...
– И ему на покой надо, и ему ночь ночевать положено, ему, бесприютному, отдающему кровь и сердце свое. Так-то, деточки, лучи вы мои красные! – промолвил старец.
342
![]()
Дети,сопя к кроша, отхлебывал» свои стаканы.
Обжигались.
Обжигались потому, что беспечность куда-то вдруг исчезла, раскрылось что-то, какой-то грех, раскрылось что-то, чего нельзя делать.
– Обидели мы его, – пронеслось у каждого. И стало неловко каждому, и стало сердце полно горечью, и сожаление врезалось в непоправимое, и стало сердце полно плачами.
– Отец-то Алипий где теперь?
Затаились.
– В Андреевский, батюшка, в Андреевский определился. А намедни, батюшка, Алипка у Мишки-«Шагалы» был, говорит, богатейший монастырь, процентов, говорит, куда!
– Да, – задумался старец, - горько мне порой, так горько...
Женя тихо заплакал.
– Мамаша-то ваша, здорова?
– Ничего, – не сразу ответил Саша, ответил затихшим голосом, – иногда... ничего... хворает.
Уткнулись в стаканы.
– А в гимназии-то у вас... вы в каком классе?
– Я в пятом!
– Я в четвертом!
– Я в третьем!
– И я... не в гимназии, а в коммерческом!.
Так, перебивая друг друга, начали рассказывать, как там в училище.
– У нас был учитель математики Сергей Александрович – «Козел», – сказал о. Глеб.
–А у нас «Сыч»!
– А у нас «Аптекарь»!
– А у нас «Стекольщик»!
– А у нас «Клюква»!
От, учителей перешли к отметкам к плутням и, увлекшись, дошли до споров, до драки.
И было так, будто не в келье, а в училище в излюбленном месте за переменой сидели, только куда здесь вольнее: не остановит звонок, не поймает надзиратель.
Дохнул уж синий вечер влажным дыханием в открытое окно башенки, и напряженно слушавший о. Гавриил не выдержал, храпеть стал.
А все видели, все говорили, рассказывали, быть может, в первый раз так прямо от полного сердца.
И ночь, забившаяся днем в башне, спустилась с лестницы,
343
![]()
пошла по кладбищу, по крестам, по плитам, за ограду, в город, в поле...
– Ну, спите-ка хорошенько, – прощался старец, – сердечки-то у вас хорошие... не согретые...
О. Гавриил со сна заторопился: требник еще читать.
– У меня, у меня, батюшка, деточки у меня заночуют.
И когда, расстелившись в келье у о. Гавриила, проболтали, прохохотали долгий час, подошел к изголовью, пришел тихий сон, не страшный, пришло тепло, Пасха, и нежною рукой до несогретых дотронулась и стала греть, отогревать стала...
X
Тяжелая, полная случайностей жизнь выпала на долю о. Глеба.
Когда умер его отец – разорившийся, когда-то богатый помещик и под старость смотритель Воронинской богадельни, – остался он с матерью.
Комната в бесплатных квартирах при богадельне. Дни напролет согнувшаяся над столом мать. На столе вороха пряжи, неподрубленных платков.
И тут же гимназист с растаращенными руками, растягивающими пряжу. Ему пятнадцать лет.
Мать слабым, слезливым голосом вспоминает о прошлом, вспоминает о достатках, вспоминает о почете, – и все потопает в дрязгах нищенской, настоящей жизни.
Потом «уроки», унижения.
Нахлынуло, закипело: – Нельзя так жить, нельзя жить! – выбивало сердце рвущим стуком.
И свет, этот детский свет, медленно меркнул и гас.
После первого выпускного экзамена исключили.
Волчий билет не помещал для горшей, быть может, обиды, праздновать окончание.
Первая пьяная ночь. Наутро изгнание из бесплатных...
Помутневшие глаза, хворость и обида подтачивали и доконали мать.
Жизнь пошла тупо.
За стенок крики и кашли, кашли и стоны, стоны и слезы, слезы и ругань.
Будто шел все куда-то по тесному, промокшему банному коридору: редкие, выгорающие лампочки, спертый пар, поплески-
344
![]()
ванье глухо сбегающей воды с некрасивых, намученных, выцветших тел. А там...
Да есть ли она, есть ли дверь наружу?
Он был тем, кого одни любят, другие ненавидят. Равнодушия нет. Резкие переходы путают и мутят: не знал, как ступить. А там...
Да есть ли она, есть ли дверь наружу?
Как-то приехал родственник по делам отца.
Отыскали его, приютили. И открылся ему новый мир. Пришла любовь, повернул ветер на свадьбу, на счастье.
И все бы пошло по-хорошему, да случился грех.
Еще не старая мать, принявшая близко к сердцу судьбу своего погибающего родственника, так к нему привязалась – сказать себе не смела: подлинно ли тут одно сострадание.
И произошло то, что накануне новой жизни дочери мать готовилась стать от него матерью...
А у него – внешне веселые дни, дни надрывающихся секунд долгих, тянущихся червем.
Этот беззаботный хохот, словно вся жизнь – копейка, а может быть храм, этот призыв на какой-то безумный пир, этот намек на какие-то такие ласки, что ужас – мор, пожар, потоп, смерч разодрали бы на себе траур, раскололи бы царский литой венец и придушили бы гром, это живое и трепетное глубин жизни – первородное сердце – полосовалось мелкими искривленными ножичками.
И полыхавшая в нем любовь, и любовь тихих, уверенных вздохов отдающейся девушки, и любовь темных, глухих желаний последних дней матери.
Тайна бунтовалась, тайна не хотела больше жить взаперти, – легла она тяжелым камнем, зачернила черной каплей грозовых предвещаний глубь края неба, зарю счастья.
И снег, этот снег, вздыхал, угасая...
Позднею ночью он с отцом невесты возвратился домой.
В доме справлялся девичник.
И, ступив на порог, они в ужасе замерли.
В освещенном зале на столе лежало-копошилось отвратительно безглазое что-то, вязкое что-то, каша запекшейся крови, кусочки мяса.
И это мясо – тело такой красавицы, задыхавшейся от ожиданья невесты!
Одна из подруг открыла ей тайну ее матери, рассказала о женихе, о их связи. И она не вынесла, вышла на улицу, легла под поезд.
345
![]()
И рядом с дочерью мать умирала.
Стало ему жутко легко: казалось, железный багор, вонзившийся в шею, превратился в мягкую, горящую ленту, и лента опутала замерзшую грудь, и, страшно натянувшись, вдруг дернула и понеслась.
И он, каменея, куда-то несся, кружился.
С каждым кругом круг расширялся, и левое бежало к правому, и правое погружалось в левое, ни конца, ни начала.
Лазурно-небесные дали, тихо-текучие воды, благовонные воды покоя и мира.
Моя матерь, Владычица!
Ты одна во всем мире – песчинке, безумно летящей вкруг солнца, в шаре гигантском, прорезанном темной непонятной тоскою, Ты одна – Тебе несу мое сердце, от муки затихшее, от жажды завядшее...
Много кануло дней и ночей холодных, беззвездных.
Много черных слов прошло сквозь мое сердце.
Каждое слово, вонзаясь, разрывало его теплое тело, каждое слово свивало паутинно-душные нити, тесно давившие нежную труда цветущих желаний.
Все они шли, сеяли раны и боль, шли, разрушали преграды, отделявшие теми от светов, пеплом крыли память о дальнем, минувшем, когда ребенком.грезил о мирах золотых и о сказочном рае, грезил и ждал...
Вернуть, вернуть бы эти мгновенья, понестись бы на крыльях без тоски, без оглядки по полям, по лесам...
Сны подползали, приводили с собой мертвецов, приводили врагов, горевали, сулили: то окружат серой, безмолвной толпою, то чуть внятно бормочут.
Заняли двери: не уйти, не вернуться.
За обидой ложились обиды, нарастали, затопляли всю душу, – ни одно солнышко не взошло, не осияло.
А горечь перегорала, оседала на ранах, руки тянулись, руки искали...
– О, отпусти Ты меня, отпусти на волю! – кричало сердце.
И люди мелькали, глухие, несчастные люди.
Слепые – не видят друг друга.
И тоска пеленала, пела мне темные песни.
Вернуть, вернуть бы эти мгновенья, понестись бы на крыльях без тоски, без оглядки по полям, по лесам...
Матерь моя!
346
![]()
сердце – шепот лобзаний.
Подыми, подыми!
Сокрой покровом нетленным, белым, как снег родимой зимы, утиши мои вопли рокотом ласковым взоров пречистых, обвей изболевшую, изглоданную мою душу.
Матерь моя.
* * *
На Покрова, в слякотно-слезящийся вечер, пришедшие на дикие крики увидели его бьющимся, извивающимся от саднящей, жгучей боли.
И на грязном, щебнистом дворе отравленный он бился в изодранном белье, бился, загрызая известку.
Отходили.
И смерть – желанная – принесла жизнь, а жизнь – испытание.
Он бросился, бросился с головой, чтобы не слышать неизмененный, все один и тот же голос, который ясно звучал, как только оставался сам с собой. А голос этот был страшным молчанием, которым плотно облеклась вся душа, дрожащая из пасти тяжких ран.
Надо было оставить себя, надо было уйти в другую жизнь, надо было отдать всего себя, отдать другому, для другого... надо было замереть на краю пропасти...
И пришли новые беды, не замедлили.
Несколько лет не слышно о нем, потом находят его в отдаленной северной пустыне.
Говорят о дурной болезни, которой он захворал и лишился глаз...
Говорят о тяжком преступлении, в котором его обвинили, и ослепили...
Из пустыни он перешел в Андрониев. Тут-то и прошла молва, будто бесы повинуются ему.
347
![]()
XI
Детям очень хотелось, чтобы о. Глеб пришел когда-нибудь пруд посмотреть.
Уж назначен был день. Да все несуразно пошло.
Утром вызывали мать в дом к братьям. Делалось это нередко, и вызывалась она для того же самого, для чего ловились дети по субботам и после ранней обедни.
С каждым годом Варенька опускалась все ниже и ниже.
Спальня ее обратилась в грязный номер грязной гостиницы с больным бездомным гостем: все было не на своем месте, все было заставлено и раскидано, – закупоренные окна, пыль, сор, духота. За порог спальни ничья нога не переступала.
Вино покупалось открыто, покупалось в больших размерах: пили монахи.
Возвратясь от братьев, Варенька заперлась...
А когда, спустя глухой час, она вышла в зал полураздетая, красная, наткнулась прямо на Алексея Алексеевича – так все звали гимназиста, одноклассника Саши.
– Вам что? – спросила она, не узнав мальчика.
– Як Саше, – отвечал тот, странно смутившись.
– Шляются тут... всякие... украдут еще... – она круто повернулась, заложила руки назад, и пошла...
Ошарашенный гимназист поплелся домой.
С Финогеновыми Алексей Алексеевич был знаком очень давно.
Когда-то еще в приготовительном классе вместе с Сашей дергали они в звонки или, намелив ладошку и два пальца и сделав плевками глаза и нос, припечатывали чертей на спины прохожим. Списывали друг у друга задачи, extemporale, переводы.
И по житью, и по обличью он мало чем отличался от Финогеновых: вечно продранные локти, и заплаты - глаза вдоль сиденья, и беспризорность, и то, что где-то рядом живут такие люди, которые все могут, а ты... и это «могут» нет-нет, да на тебе и покажут...
Раньше приходил он только по делу: за уроками. А с некоторых пор стал заходить так; жил недалеко от монастыря, по соседству. Палагея Семеновна после некролога даже в именины не показалась.
Рояль некоторое время не открывался.
Оказалось, Алексей Алексеевич играет.
Вот и музыка пошла.
Знал он для своих лет много, знал то, чего не знали Финогеновы: читал книги.
Книги появились и у Саши.
348
![]()
* * *
Когда дети пришли из монастыря и узнали от Прасковьи, как Варвара Павловна выгнала Алексея Алексеевича, и как тот ушел, – огорчениям и досаде конца не было.
За обедом излили злобу: они, один за другим, подталкивали проходившую по столовой мать, подталкивали с каждым толчком сильнее и грубей, подталкивали с каждым прикосновением больнее и жестче.
И та, едва держась на ногах, шарахалась из стороны в сторону, вперед и назад, вправо и влево.
И полон рот ее дрожал в слезах, и посиневшие губы дергались; и рвалась, скрежетала ругань и проклятия.
– Проклятые! Проклятые!
В прихожей она оступилась и, не удержав равновесия, ткнулась животом оземь.
Вдруг встала, будто опомнилась, и пошла, пошла с закрытыми глазами, молча, в спальню.
Щелкнул замок...
– Проклятые! Проклятые!
И дом притаился.
Уж прошло шесть и пробило семь, а о. Глеба все не было... И стало так жутко, и страшно сердцу, страшнее всякой боли, страшней самой горькой обиды.
– Батюшка, благословите! – послышалось, наконец, обычное монастырское приветствие о. Гавриила.
И старец переступил порог.
Весь дом на ноги поднялся.
Мать вышла нетвердо; прерываясь, с надтреснутым хохотом, выскакивали у нее слова.
Дети от стыда чуть не плакали: очень было заметно, а так не хотелось этого, так не хотелось...
Сели чай пить на террасе.
Был теплый, слегка затуманивающийся вечер конца весны. На пруду лягушки, будто рыдая, квакали.
Один о. Гавриил казался невозмутимым и благодушным; старался занимать о. Глеба.
И разговор о. Гавриилом начался. Сначала рассказал он о том, как о. Платон-«Навозник» и о. Авель-«Козье вымя» во время обедни вцепились друг другу в лохмы за кружку, потом перешел к жизни «низких душ».
– В келье Пирского, батюшка, родила на утрене, извините за выражение, его Манька, батюшка, двоешку,
349
![]()
Старец, не проронивший ни одного слова, казалось, впивавший все невзгоды комнат, вдруг повеселел.
– Вот и хорошо, – сказал он, – вот и у нас ребеночек родился: это Христос посетил наш мрачный храм, наш мертвый дом...
– Батюшка, – заволновался о. Гавриил, – а ну как до «Хрипуна»... до преосвященного дойдет?
– Да, – осунулся старец, – дойдет. Расскажут. Послушника выгонят...
И старец замолк.
И в ту же минуту каждый прочел в своем сердце горький упрек, каждый обвинил себя в своей и чужой вине и в вине целого мира перед самим собой.
И острием острейшим входил этот упрек, входило то обвинение, и уходили вместе глубоко, глубже в сердце.
Стало пусто, невыносимо, жить не хотелось, и все голоса, дотоле громкие и внятные, замолкли...
– Ну, а пруд-то посмотреть? – очнулся старец.
И тотчас все, с матерью и о. Гавриилом, дружно повскакали, схватили под руку о. Глеба и, чуть не бегом, прямо в сад.
И там пространно затараторили – рассказывать стали о яблоках и «кизельнике», и как они их воруют, сшибают, рвут, трясут.
Затащили в купальню и, совсем забыв, что старец ничего не видит, проделывали разные фокусы и диковинки.
– О. Глеб, а о. Глеб, а я-то как, посмотрите, о. Глеб, я на одной ручке!
– А я на спинке!
– Сидя!
– Лягушкой!
– По-бабьи!
– Рыбой!
– С головкой вниз!
– Ногами вверх!
И долго бы еще ныряли и проказили, – Прасковья помешала: ужинать готово.
Мать совсем уж оправилась.
И когда сели за стол, было страшно шумно и весело.
Старец хохотал раскатисто и беззаботно, как хохотали Саша, Петя, Женя и Коля.
После третьей о. Гавриил пустил себе в жирный суп огромный кусок икры, стараясь щегольнуть перед о. Глебом своею светскостью, но, забывшись, стал есть руками.
350
![]()
– Ты, Гаврила, кильку съел? – поддразнивали дети.
– Съел, душечка, съел.
– А еще съешь?
– Съел, душечка, съел.
Так до бесконечности.
Далеко за полночь увез старец нагруженного о. Гавриила, на которого кроме прочих бед напала еще безудержная икота.
И он икал, будто квакал.
И от хохота никому спать не хотелось.
А рассвет, засинив белые занавески детской, не спросил: что ты сделал? зачем сделал? - не заглянул тем страшным, искаженным лицом, от которого бежать бы, бежать на край света...
XII
На Иванов день минуло Коле тринадцать.
До той поры не прочитавший ни одной строчки и презиравший книгу, Коля случайно наткнулся на Достоевского.
И Достоевский был первым, который тронул его.
Строчки горели, закипали слезы.
Эпизод из «Мертвого дома» навел на мысль об устройстве театра.
Когда-то давно, всего один раз возили детей на «Конька-Горбунка», и с тех пор разыгрывались оттуда разные сцены: изображалось с помощью тряпок, служивших ризами для игры в «большие священники», желтое поле, и кто-нибудь ржал и прыгал коньком, и жестикулируя, как в балете, являлся Иванушка, вымазанный сажей, будто в процессиях «избиения младенцев».
Теперь решено было устроить настоящий театр и играть все.
С матери взяли подписку: она мешать им не будет, а они не будут просить денег.
Пошли собрания.
Происходили собрания наверху ночью и страшно тайно: боялись недоразумений со стороны матери. Обыкновенно снимали внизу сапоги и на цыпочках пробирались по лестнице. А там уж кипел самовар, и, открещивая окна и углы, укладывалась на ночлег Прасковья.
За чаем под тук и стрекотню разгарной летней ночи уносились Бог весть куда: чего-чего только не выдумывали, каких таких театров не воздвигали. Говорили наперерыв, задыхались от клокочущегося нетерпения.
351
![]()
Больше всех горячился Петя.
Решили играть до 16 августа, непременно до этого ненавистного дня, за спиной которого торчит гимназия со своим отвратительным казенным лицом в двойках, с вечно шмыгающими, скучными и злыми классными наставниками.
По постройке театра большое участие принял о. Гавриил, натащивший всякого хламу из своего свинушника-кельи.
Доски скрадены были ночью из плотницкой. Красть помогали фабричные, не меньше детей ждавшие представления.
Работали с опаской, стараясь лишний раз не стукнуть, не поднять голоса.
И вот после долгих трудов сцена готова.
На площадке перед террасой, под качелями, будто на корточках примостилось какое-то первобытное строение – шалаш, какой-то дешевый сахарный домик, а на перекладине качельных столбов взвилась огромная афиша, изображающая зеленого черта с хохочущими глазками.
Всю ночь накануне держали караул: управляющий Андрей-Воробей» грозил «убрать шалашную постройку», а дядя Игнатий, проходя по саду, остановился и подозрительно наводил бинокль.
Хорошая была ночь, теплая, без облачка; продежурили ночь безропотно и, как на грех, к утру застлалось небо, и накрапывающий сонный дождик серыми каплями-лапками пополз по крыше и, проползая под доски, ползал там по липким, мажущимся стенкам трясущихся кулис.
Чуть не плакали от огорчения, молились Богу, чтобы прояснилось.
Передрались друг с другом от отчаяния.
Иссякнул дождик к вечеру. Побежали тучки, крохотные, ясные, принесли с собою вечернюю синь с талыми звездочками.
Заиграла музыка, – Алексей Алексеевич из кожи лез.
Хлынула народу тьма-тьмущая: фабричные, плотники, пололки с огорода, их знакомые и знакомых знакомые и знакомых приятели.
Явился городовой Максимчук «в наряд».
Наряженный в голубую ленту и небывало высокую звезду из черного сафьяна, начальственно расхаживал он по рядам, пошелушивая подсолнухи и непечатно «балакая» с публикой.
О. Гавриил важно расселся в первом ряду, нацецив на нос для торжества такого пенсне без стекол.
Он что-то без умолку болтал совсем непонятное, будто по-
352
![]()
французски и наблюдал за матерью, которая полдня, запершись, просидела в спальне.
* * *
Занавес медленно отдергивается.
Боже мой, сколько раз замирает и отлегает на сердце, сколько волнения, как на экзаменах...
И какая безумная радость от этих встрепенувшихся хохотов, от всех лиц, искаженных гримасами, и этих прыскающих присмешек, и гудящих, визжащих восклицаний и криков одобрения.
У старухи-Коли выпотрошился живот.
Спившийся певчий-Петя икал, как по-настоящему, должно быть, и от пива настоящего.
– Ха-ха-ха... хо-хо-хо... го-го-го... хе-хе-хе... хи-хи-хи...
Снова заиграла музыка.
Вышел Петя – запел своим чистым тревожным голосом, и звуки подкатились к деревьям, окунулись в созревшей листве и поплыли по пруду...
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.И опять стало жутко, задрожали коленки.
Новая сцена.
Следователь-Саша: Подать сюда Ивана Ананьева!
Купец-Женя: Ваше благородие, ежели я вымазал горчицей лицо мальчишки, так я, провалиться мне, ей-Богу...
Будочник-Петя: Иван Ананьев, к барину! Слышь, ты!
Из дверей выскакивает, как только можно было изодранный, в опорках на босу ногу, с подбитым глазом Сапожник-Коля.
Нахально озирается, потом, преглупо улыбаясь, переминается, хочет сказать что-то, разевает рот...
– Это еще что за новости, – раздается вдруг крикливый голос, – вон! – и среди дрогнувших голов мелькнула и повисла скрюченная рука дяди Алексея, – вон!
И, как один человек, пошла толпа, повалила толпа, как дым, бездушно и вязко; а скрюченная рука Огорелышева, не дрогнув, нависла, давила, и крик этот жил, хлестал по голой шее, по лицу, и что-то едкой пылью-жгутиком больно подгоняло вон, вон, вон...
О. Гавриил бросился на террасу, туркнулся в дверь – заперто, к окну – слава Богу! полез через окно и застрял...
353
![]()
– Подожжете еще... никаких театров в нашем доме... Примите это к сведению! – Алексей выкрикнул все это скороговоркой и, вздрагивая плечами, повернулся...
– У Достоевского вон на каторге... театр устраивали... – Коля не мог докончить: крепкая пощечина хлестнула задорнозвонко по вымазанному лицу; смятый рыжий картуз глухо шлепнулся на подмостки.
– Мерзавец! – плюнул дядя.
– И не посмеешь и... и... – тогда закричал Коля на страшно высокой ноте, закричал... захлебнулся.
Сухие слезы брызнули из его раскрытых глаз и, смешавшись с густым плевком, стали расползаться, разъедая краску.
– Свинья! – и, круто повернувшись, зашмыгал-полетел Алексей, и лицо его, улыбаясь шипящим, сухим ртом, болело от злобы.
Умереть?
Нет – нет – нет, сердце разорвать, сердце разорвать...
И рыдало оплеванное заостренное сердце...
О. Гавриила, кричавшего на манер свиньи, высвободили из окна с помощью Кузьмы, городового, Степацнды, няньки и Маши.
Рясу позабыл, куда там! – так пятки и засверкали.
* * *
Сидели наверху вкруг самовара, как всегда.
Приготовленные к подношению дубовые венки обиженно глядели со стен детской.
Алексей Алексеевич взволнованно взад и вперед ходил по комнате.
Храпела нянька.
– Уж зимой непременно устроим. Здесь устроим или в зале...
– А на будущий год можно и занавесь такую повесить, настоящую.
– Все играть будем...
Алексей Алексеевич взволнованно взад и вперед ходил по комнате.
Зеленый черт, теперь ночной черный, зажег зелеными огнями хохочущие глазки и, извивая длинный хвост, принялся в неописуемом восторге раскачиваться на влажной перекладине.
А на него шла Осень-красавица, – последние дни – упоенье несказанное – Осень, рассыпающая тьмы путей – говорливых
354
![]()
звезд, Осень, поднимающая золотые хоругви, заставляя зеленый пруд.
– Пожар какой, пожар пущу! – горело, раздувалось детское сердце в пожаре лютом.
ХШ
Ранним утром, чуть еще брезжут осенние будни и редко ударяют к «средней обедне», Женя и Коля отправляются в училище.
Слякотное небо, слякотные улицы, поскрипывая, раздирают мутные от лихорадок и тифа глаза; к папертям подносят покойников бедных с колыхающимся желтым казенным покровом вдоль дощатых дешевых гробов и пахнет перегорелым ладаном и гниющей, заразной сыростью, и стаи ворон, каркая, кружатся и перелетают, Перелетают и кружатся...
Таким отдаленным казалось тогда то будущее, что непременно придет своевольное и огромное, то будущее, которого хотелось, о котором всякий час и день смутно, но с таким жаром мечтали дети.
Уроки тянутся надоедливо, – все придирается и изводит: батюшка обличает Финогеновых, позорящих, дом, благочестие коего засвидетельствовано многими христианскими добродетелями, русский учитель вылавливает в сочинениях вольнодумства и горько стыдит за безграмотность.
Перед партой постоянно хранится книга и с каждой переменной убывают правые страницы, как с каждой четвертью убавляются баллы по поведению.
Нередко наезжает в училище дядя Алексей, и приезд его – самая тягчайшая минута и без того обузной классной жизни.
Приходится забираться в самые тайные места и там высиживаться.
А то позовет, придерется и для «острастки» выговорит.
Наступало воскресенье.
До ранней шла спешка: подчищались, вымарывались да подправлялись колы и двойки.
Всякий раз Игнатий просматривает балльники и всегда остается недовольным. Глядя куда-то в сторону, он сухо говорит о лени и шалопайстве, о том, что вот Сеня меньше пятерки никогда не получал, что надо учиться хорошо, потому что средств к жизни никаких нет, что живут они на чужой счет, что со временем, если только их не исключат, все равно придется взять из училища и отдать в сапожники...
Дома после долго и кропотливо восстановляются отметки:
355
![]()
выводятся колы и двойки с росчерками и замысловатыми завитушками грека, русского, историка, физика.
И комнаты тряслись от хохота.
* * *
В доме произошли большие перемены.
На Воздвиженье умерла бабушка, умерла одна, забытая, в палате для слабых. Извещение о смерти пришло много спустя после похорон.
А еще летом, предчувствуя конец свой, она спрашивала детей: придут ли дети на отпевание, принесут ли цветочков?
«И ты, Колюшка, – выделяла бабушка, – придешь, вспомнишь ли, как старуху обижал да обманывал? А мне и хорошо будет, светло из гроба смотреть... сердцу весело».
Издох Наумка.
Вырыли дети ямку, положили кота в ящик, убрали усатую мордочку последними цветами – осенними астрами и зарыли под вербой около террасы.
На качельном столбе выцарапал Коля эпитафию: «Наумка – мой ровесник, скончался 25-го сентября».
О. Иосиф-«Блоха» добился-таки лампадки и единственный раз в году, когда для приличия Алексей причащался, удостаивался поднести ему просфору.
О. Гавриил-«Дубовые кирлы» в сане иеромонаха вместе с преосвященным «Хрипуном» перешел в лавру и больше не бывал у Феногеновых.
Сапожника Филиппка, Степанидина сына, засадили в острог.
Умер и ночной сторож Аверьяныч. Нашли Аверьяныча в сторожке с тряпкой в беззубом рте и окоченевшего.
На его место поставили кузнеца Ивана Данилова, окривевшего от искры на правый глаз.
Наконец, разочли горничную Машу: «путаться стала».
Уходя, Маша на весь дом плакала: уходить не хотелось. И всем было горько: так бы, кажется, уцепился за ее белую юбку в маленьких голубеньких цветочках и никогда и никуда не отпустил бы от себя.
«Погибла, девка, погибла – таковская! – ворчала Прасковья, а трясущаяся рука совала в горячую руку «пропащей» отложенный большой рубль, – заходи когда, чего там: все мы... таковские».
Машу заменил Митя, сын Прасковьи, окрещенный в первый же день Прометеем. Прометея поместили в детской, а Прасковью перевели в столовую за занавеску.
356
![]()
* * *
Вечерами Петя по-прежнему диктовал Жене и Коле. Тут же с пером в руке усаживался Прометей, наловчившийся в какой- нибудь месяц до золотой медали, как сам хвастал.
В известные сроки Прометей запивает.
Пьяный, он долго и однообразно играет на гармоньи. А когда начинает темнеть, странное беспокойство охватывает его; он поминутно вскакивает: – и все порывается куда-то домой, тянется весь, пока не выронит гармоньи и не выскочит на улицу. И только к утру возвращается. Нагишом. Всякий раз ему отказывают и снова принимают, голодного и темного.
Носит Прометей тужурку с серебряными пуговицами, переделанную из изодранной гимназической шинели, а на ногах шмыгают резиновые калоши.
В праздники же надевает коричневую визитку и штиблеты без стука.
– Как у настоящего солитера! – вертится Прометей, охорашиваясь перед зеркалом, – пройтись теперь, да девчонку грудастую подцепить, эх ты!
И, смакуя предстоящее наслаждение, пускается описывать приключения своей трактирной жизни. Восторгается, вспоминая гостей, которые хорошо на чай давали. «Не то, что шпульник какой: натрескается, набегаешь все ноги из-за него, а он тебе еще в морду!»
Потом ударяется в воспоминания из своего жития в Зоологическом Саду, где занимал он какую-то нечистую тяжелую должность при слоне... во время случки.
Голоса у него отродясь никакого не было, но согласиться с этим – лучше умереть, один конец, и, вытягивая длинно губы и приседая, Прометей пел:
– Ну-ка, послушайте, – бывало, останавливает он каждого,
– как, а?.. Не хуже твово Шаховцова вывел, ловко?
– Прометей, а Прометей! – приступает, лукаво ощериваясь, Коля, – хвати, Прометей, многолетие с перекатами!
И Прометей принимался орать, – орал во всю мочь, орал до хрипоты, до удушья, пока не засаднит горло.
Когда приходит Алексей Алексеевич, начинаются разговоры.
Прометей, изгибаясь, таинственно выспрашивает: не грянет ли сызнова русско-турецкая война, и не объявился ли где Наполеон Бонапарт?
Над его кроватью висели раскрашенные портреты во весь рост Скобелева и Наполеона.
357
![]()
– Какая еще тут война?! – огорашивает Алексей Алексеевич, – голод, люди мрут... Людей насилуют, людей давят. Безобразие...
– И жить не стоит, коли так, – примолкает Прометей.
И вся его истощенная фигурка, жаждущая отличиться, горбится больно, и он идет к столу, отыскивает клочок бумажки и с каким-то отчаянием своим красивым почерком выводит подпись с завитушками: «генерал-лейтенант, генерал от инфантерии, наказный атаман Войска Донского, генералиссимус Дмитрий – Прометей Мирский...»
* * *
В душе Саши произошел резкий перелом: из болтуна превратился он в замкнутого и скрытного- Всех избегать стал, уединяться: сядет и сидит–читает, а потом молиться примется.
С какого-то вечера начались в доме беседы.
Тихим, изболевшимся голосом необыкновенно увлекательно рассказывал Саша о подвижнической жизни, проповеди, о мучениках, о ските, о монастыре, и виделся старый монастырь где-то в дремучем лесу, на дне «светлого озера», и из пекла страдания выплывали омытые огнем осиянные лики.
– А как насчет военных действий? – не раз перебивал Прометей, прислушиваясь к рассказам.
Алексей Алексеевич, ехидно улыбаясь, подносил самые отборные факты из очертевших буден и, горячась, огульно выбранивал всех и вся...
– «Благочестивейшего Самодержавнейшего...» в монастырь идти хотите? душу спасти хотите? а под носом вешать будут...
Благословите их! Хо, хо! лучше запритесь в нужник...
Скоро верх обратился в моленную. Саша сшил себе что-то вроде подрясника из халата, перешедшего вместе с старым бельем от дядей. Начались службы.
За акафистами, вечерней и повечериями выстаивали до глубокой ночи, выбивая поклоны и мучая себя всевозможными лишениями.
И так все шло, разрастаясь и углубляясь, с Рождества вплоть до пятой недели Великого поста, пока на стоянии Марии Египетской после канона за сенаксарем Коля не выкинул одну штуку: позванивая маленьким колокольчиком и строясь приходским старостой, прошелся он с тарелкой, а сзади семенил Женя с блюдечком, будто с кружкой.
358
![]()
И рто было тем плевком, что навсегда пятнит незапятнанное, было скользнувшей улыбкой, что поражает смертельнее заостреннейшего ножа, было тем молчанием, которым решается жизнь и смерть.
Что-то хрупнуло и потонуло в сверкающем хохоте.
Незаметно перешли к игре, развлечению: распевали на разные гласы иермосы, представляли знакомых дьяконов и священников.
А тут весна, рамы – вон. Подкралась весна, зашептала сладко, засулила ярую жизнь. Пойдешь за ней – выпьешь ярь до дна из теплых рук.
Ишь, какая туча синяя да большущая за монастырем полегла, раздавит она белую колокольню, белые башенки!
– Поповство, – ворчал не хуже няньки Алексей Алексеевич, – не люблю я этого фарисейства. Давно бы бросить пора...
По случаю поздней Пасхи экзамены начались у всех рано.
Прометей ушел весь с головой в жизнь гимназистов и не меньще их тревожился.
Ура, латинский порешили!
Геометрия дрянная
Лезет в голову весь день– распевал он собственный стих на манеру: «Ура, Пешков, тебе награда за дальний путь твой предстоит».
Потянуло Пасхой.
С Чистого понедельника началось лепление огромнейшей свечи из маленьких свечек и огарков; свеча предназначалась для крестного хода, чтобы почудней было.
На утрене в Великую субботу Петя в первый раз особенным распевом читал: «Иезекиилево чтение», а за обедней пел по-театральному: «Воскресни Боже, суди земли».
Тут было весело – хорошо, так разыгрались, столько вспыхнуло живым ргнем затей-проказ в этот год, в такие дни... в дни последние...
XIV
В девять ударили к Страстям.
И стало так грустно, словно уходил кто-тр, дорогой бесконечно.
359
![]()
Ох, этот звон погребальный – над всем домом пропел ты свою страшную песню, пропел над Пасхой, над Христом... невоскресшим...
С обеда все отдыхали. И сквозь незадернутые занавески засматривало солнце и, насмотревшись, закатилось. Прошлись мимо, повернулись тучки и уплыли. Нашли сумерки, вечер пришел и глянул, чуть говорливый, бледный, в дом.
Прикурнувшему Коле показалось, вошел в комнату старик-нищий, сгорбился весь страшно и стал перед кроватью. Очень старик на покойника Аверьяныча похож, и штаны такие же старые, мышиные...
Что это он глядит так?
Что собирается сделать?
– Чего тебе нужно?
– Кто ты?!
Тут захолонуло от ужаса на сердце, руки одеревенели, и мысли помутнелись.
Коля шел по деревне, – должно быть, это и есть деревня: белая церковка и две неровные, покатые стены почернелых изб.
Огромная толпа мужиков и баб, толкаясь, обгоняла его.
Но было тихо.
Необыкновенно красное солнце медленно заходило за колокольню, и ярко-зеленые тучи невиданных форм мчались по небу.
Расталкивая толпу, оступаясь и прихрамывая, пронеслась мимо баба в растрепанном красном платке. Над ее головой горел острый кухонный нож.
И толпа, обезумев, бросилась за ней.
Коля шарахнулся в сторону.
Кинулся к избе.
Стукнул в избу.
Открыл дверь и будто очнулся.
– Завтра Пасха, – метались ужаснувшиеся мысли, – почему я сюда? зачем?..
И почудилось ему, вошел старик-нищий, бормоча и нащупывая стены.
И не Аверьяныч, совсем это не он; вон на волосатой руке, как у отца, перстень заиграл, вон усы защетинились, вон...
– Пожар! пожар! пожар!!!
Коля вскочил из угла да к окну.
Высунул голову...
Черные тучи, черный подожженный океан дымился со всех концов.
Небо падало.
360
![]()
– Пожар! пожар! пожар!!!
И вдруг над самой головой вспыхнул острый кухонный нож.
И тотчас снопы искр пробили кромешную тьму, красный крик разодрал горло и впился горящими ртами в живое тело, его тело, подмятое, извивающееся в костлявых руках старика-нищего, старика-отца...
В Андрониеве звонили к Страстям.
И было так горько, словно уходил кто-то, дорогой бесконечно.
Ох, этот звон погребальный – над всем домом пропел ты свою страшную песню, пропел над Пасхой, над Христом... невоскресшим...
Коля заторопился одеваться: все уж на ногах были.
Тоска заливала сердце.
Скоро дом и опустел.
Забрали куличи, пасхи, забрали Прометея и Степаниду и пошли.
В кабинете Алексея буднично зеленый огонек мигал.
А пруд был черный-черный...
Недомогавшая нянька осталась дом караулить.
Она прошла в зал, зажгла лампадку, туркнулась к запертой матери, перекрестила двери и окна и углы холодные.
Ей все чудилось: ходит кто-то по чердаку, лезет, шарит по террасе, ногой топает.
Измаялась вся, пошла наверх и там прилегла до звона на кровать Мити.
* * *
Мать, проведшая чадно целую неделю, лежала теперь, не шелохнувшись, в смертельном ужасе вниз головой.
На ней лежал, так казалось ей, много больше ее роста деревянный темный крест, обшитый неровной, зазубренной жестью, и тяжесть креста, наседая, приплюскивала ее тело, и острый гвоздь креста ходил и царапал темя.
Монах с красивым лицом и рассеченной бровью, из которой тихо капля за каплей сочилась густая темная кровь, монах в ярко-зеленой шуршащей, шелковой рясе, минуту назад мирно державший этот черный крест, вдруг изогнулся весь и бросился на Вареньку.
И они бегали по комнате, и монах пропадал и появлялся, и настигал и хватал ее.
Глядела на них тишина присмиревшая.
361
![]()
Наконец, обессиленная, измученная, перепуганная, бросилась она в гардероб, забилась в платья...
Но костлявая рука нащупала, вцепилась, схватила ее там и, вытащив вон, кинула ничком на кровать.
И тогда хрустнула ее спина под навалившейся тяжестью черного креста...
Монах беззаботно расхаживал по комнате, напевая старческим дребезжащим татарским голосом:
Ты барыня-барыня,
Сударыня-барыня.И мотив казался страшно знакомым и страшно близким, и в странном сочетании слов слышалось тысяча понятных, тысяча близких, тысяча верных, тысяча родных, ах! родных сочетаний.
Надо что-то вспомнить, надо что-то сделать, непременно сделать, тогда уйдет монах, унесет крест.
Гвоздь, медленно вонзавшийся в темя, вдруг резанул что-то мягкое, живое и, скрипнув, пошел по мягкому, живому.
От невыносимой боли защемило сердце.
Черная вода, черные искры прыснули из глаз.
Варенька стиснулась в комок, уперлась... да к двери.
Уйдет монах, унесет крест.
А он стоит, раскинул руки. И руки длинные, как крест, такие длинные, такие длинные до окна и от окна в огород, и до печки и от печки в кухню.
Ты барыня-барыня,
Сударыня-барыня.Нагоревший фитиль – красный камень – предсмертно издыхал.
Судорожно выдернула шпильку, стряхнула нагар.
Посветлело.
Стало светлее – страшней.
По углам копошилось, липло, шуршало, всю душу тянуло, всю душу тащило с корнем, тащило с кровью, с мясом, с мозгом...
– Куда, куда ты?
– Туда.
Гвоздь, врезавшийся в мозг, переломился.
Гвоздь переломился.
Хлестнула угарная волна. Стала хлестать по глазам, по глазам, по лицу.
362
![]()
А мимо летели, кружились, кричали, визжали беспокойные искры, мимолетные искры, ядовитые, злые...
Щипало... всю, всю.
Не осталось ни одного живого места.
Минуту она стояла посреди комнаты в этой угарной волне недвижимая.
Вдруг схватила какую-то тряпку, потом панталоны, мигом, как кошка, вскарабкалась на гардероб, нащупала крюк.
– Здесь, здесь... так...
Спешила, страшно спешила.
– Скорее, скорее... уйдет, унесет.
– Я уйду!
– A! a! ах!!! – Душат... ушат! – застонал, заорал кто-то старческим голосом и там наверху, и тут внизу.
Опять, опять... слабее, тише...
Вдруг что-то оборвалось, глухо раскатилось и ударилось прямо в стены, в дом, – и, вздрогнув, задребезжали окна.
И тьмы голосов кричали, кричали:
– Дуу-доон, – Дуу-доон – Дуу-доон... Дон! Дон! дон!
* *.*
Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И сущим во гробех
Живот даровав.Женя и Коля с новыми белыми с густой позолотой свечами идут перед батюшкой в золотой кованой ризе, и сияют их лица, и сливаются сердца с сердцем напевов, всколыхнувших темную темь храма.
И кто это там посреди нищей толпы, кто это там в светлых одеждах на понурые головы возлагает руки свои, чей это голос, из скорбей выплывающий, над всеми звучит голосами:
Мир вам.XV
В дом к Огорелышевым дети не зашли: завтра успеется, да и служба затянулась до рассвета.
Ишь, заря заиграла, и сад и пруд затучнелись голубым дыханием, будто захотелось им еще понежиться в теплом сне, не знать пробуждения, не знать.....
363
![]()
Распевая по двору, шумно вломились в дом.
Замки оборвали, – не достучались няньки: няньку ночью схватили душить черти, – подняться мочи не стало.
Всем собором с Прометеем подступили дети к двери спальни.
Туркнулись, – заперто.
Постучались еще и еще раз, – ни звука.
Стучали, стучали.
Было тихо за дверью, так тихо.
И стало всем страшно.
Они закричали в один голос, закричали не своими голосами, чтобы непременно отперла дверь, непременно...
– Мама, отопри нам, мама! !
И кричали, надсаживались, колотили и руками И ногами в дверь спальни.
И стало всем страшно.
Наконец, упираясь друг в дружку, сжались, стиснулись, надавили на дверь.
И тогда хрупнуло что-то и, судорожно звякнув, отлетело.
Хряснула дверь спальни.
Петли, как оковы, со звоном упали...
Споткнулись, за порог зацепились, под обухом приросли к месту.
Мать в одной сорочке... мать на крюку под потолком... мать побагровевшая с длинным красным языком из черного запекшегося рта.
Закровенившиеся огромные белки в упор...
Скрюченные пальцы на заострившихся ногах...
И острые синие ногти...
Густые проснувшиеся лучи лезли в окно, ползли по комнате, красили алым сорочку и ослепительно больно горели на опорожненной пустой четверти, валявшейся на ковре у кровати.
Дети стояли, как вкопанные, с пригнутыми шеями, с застывшим взмахом. Тупо.
– Уфф-а? – и, задрожав всем, всем телом до последних дрожей, Женя закусил курточку Коли.
Тогда Саша и Петя бросились к матери.
Набросились на нее, – спасти хотели! – схватились за ноги, – спасти хотели! – повисли на ногах, – спасти хотели! – и, повисая, откачнулись, раскачались – раскачались и полетели...
И летали, как на гигантских качелях.
И вышибло крюк, оборвалась петля.
Громом грохнулся на пол труп.
364
![]()
Мертвец, полуживой и живой барахтались. Сделать что-то хотели, поправить что-то хотели, спасти хотели... и царапали, мяли друг друга с запыхавшимся обморочным сапом.
Терлись спина и спина, терлись живот и живот, терлись грудь и грудь.
Крошащаяся известка, сухая душная пыль, погребая, падала.
Прибежавшая на суматоху Степанида и приползшая сверху нянька кричали озверелыми голосами:
– Караул! караул! батюшки, помогите!
– Караул! караул! караул! – кричало в ответ благим матом где-то далеко за двором, за прудом.
Повскакали фабричные.
И комната наполнилась, комната битком набилась суетящимся народом и тупым криком.
Тут выволокли труп на двор и с гиканьем принялись качать – подкидывать удавленника, будто утопленницу.
Дом шарили, по чердаку рыскали, под террасу засматривали, искали вора.
Иван Данилов видел....
На огороде с отдавленными хвостами Розик и Мальчик выли.
Нянька сердцем плакала.
XVI
Желтый со стиснутыми зубами застыл Светлый день.
Колокола орали.
Подпил двор, разгулялся.
Фабричные гурьбой пошли.
Шатались-шатались, – пристанища нет нигде.Задевали.
Раз сто подрались.
Павел Пашков, отец Машки, над которой дети так издевались когда-то, растрепанный, с слипшимися волосами, озлобленный и пьяный, с ножом бегал, зарезать стращал.
После обеда спать не полегли, в орлянку заиграли.
Разгорячились.
За сердце схватило.
Стенка на стенку пошла...
Загалдели.
Прилетевший унимать драку, врезался Алексей в толпу.
Крякнув, осела толпа.
Да Павел Пашков на дороге:
– Стой! – волком завыл: дождался бедняга.
365
![]()
И, тотчас хлюпнув, что-то тяжело ткнулось в вязкую землю.
На земле ничком Алексей лежал.
С пробитым черепом давил его Павел Пашков.
И кровь хлестала, брызгала, липкая.
С огромным поленом Андрей еле дух переводил: спас хозяина.
И кровь хлестала, брызгала, липкая.
Тогда заревела взбешенно зловещим ревом толпа.
Закипела, пошла, понеслась.
Мяла, давила, росла.
– Бей! бей! бей! бей!
Все свои руки в мозолях, все свои руки в копоти она подымала.
Голубой воздух зачернился.
– У-у-у...
Усталые глаза напоились жизнью..
Темным окном свет свой прозрели.
– Бей Огорелышевых! бей отродье поганое! бей его!
Надругались, напотешились над ругательством, Над своим позором...
По косточкам мясо живьем разнимали...
– У-у-у...
Вытягивали жилу за жилой, за каждую слезу, – как много слез в камни ушло, прудом выпито, разъелось дымом, пошло по миру.
Прогнили стены от умирающих вздохов.
Каждый день...
Ночь и день...
Ночь и день...
– Бей! бей! бей! бей!
– Тащи Игнатку!
– Лупи его, лупи змею!
– Скус-ного!
– У-у-у...
– Антихриста!
– У-у-у...
Фабричный свисток на крик свистал.
И в миг загремело, и в миг застучало, зазвенело, забило, затопало.
Лязгало; буХадо,-орало, орало...
И вопли баб рассекали детский крик и писк резал крики, и гогот разрывал и тушил стон, и лошадиные морды, фыркая, бешено ржали.
366
![]()
Пруд взволновался, пруд глотал, хохотал, хохотал, хохотал...
* * *
Христос Воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И сущим во гробех
Живот даровав.– Вы, ты, ты, – взвизгнул Алексей, вбежавший в зал бледный, испачканный кровью и грязью, – вы на моем дворе! специалисты! на дворе, а! бунт, специалисты! мать из-за вас! довели!
И я, да, довели!
Дядя хлопнул дверью.
Хлопнул дверью, выбежал вон.
Было тихо, так тихо в доме.
Бледно-красный свет свечей горел и дымился душным огнем.
И румяно-белые шторы, алея, гасли.
Метались.
О. Глеб, служивший панихиду, вдруг выронил свечку и, простирая посиневшие руки, упал у гроба.
Извивалось в корчах все его тело, пальцы мышами бегали, ловя что-то на полу.
Серая пена колотила-билась на страшном скошенном лице.
Метались.
И когда, отдышавшись, ушел о. Глеб к себе в монастырь, когда нагрянула она нежданная, костлявая ночь, и костром запылало навсегда утерянное, – наполнились комнаты страхами.
Поочередно читалась псалтирь.
Схваченные тугим обручем ужаса, дети стояли у гроба.
Стояли не шелохнувшись, не оглядываясь.
Там в раскрытой спальне явственно копошилось что-то.
Сновали тени – желанья несказанные, жизнь не изжитая...
И кто-то подходил и стоял за спиной близко.
И руки простирал длинные-дпинные крестом за белый саван... за белый саван в сад.
Вата в гробу подымалась...
Подымалось холодное спеленутое тело...
И давила серде тоска смертельная, а сердце бесслезно плакало.
Нет, не приходил Тот, светлый и радостный, не говорил скорбящему миру:
М и р в а м.
367
![]()
XVII
Унесли гроб.
Забили его черными гвоздями.
Под материнское сердце положили в вымерзший склеп.
На поминках дети напились до бесчувствия.
И пошла жизнь своим чередом от дня до ночи и от ночи до дня. Каждое утро приходил теперь управляющий, Андрей, и отдавал приказания; его и слушаться велели.
Вернувшийся из-за границы Сеня и не подумал восстановить связи с двоюродными братьями.
Назначенный директором Огорелышевского банка, был он занят своим положением.
«А мало ли что было, кто не грешен!»
Саша в университет поступил, и целыми днями пропадал у Алексея Алексеевича. Сошелся он с его братом Сергеем, у которого свой кружок был.
Коле очень хотелось попасть хоть один разок на собрание, но Саша и слышать не хотел: такой тайной облечен был этот кружок.
Пете уж семнадцатый шел, а гимназии конца краю не видно было: оставался он на второй год чуть ли не в каждом классе.
Петя, Женя и Коля тесней зажили.
Ходили они на богомолье за много верст от дома и всегда с Прометеем, нагруженным мешком сухарей и бутылкой за пазухой.
Глядело небо на них открытое, лес листвой шелестел, царапал ветками, ноги корнями трудил, а поле колыхалось – дивилось цветами и травами, веяло веяньем песенным, смеялось и плакало.
Да так смеялось, да так плакало, лег бы на эту душистую землю, обнял бы ее всем своим телом и никогда и никуда не отпустил от себя.
Полные хвороста овраги ночлег готовили. Проливной дождь спины сек, солнце палило кожу, покрывало потом и пылью загорелые лица.
А кругом – круг дали незатоптанной, беспроторной, широкой.
Да такой широкой, ни глазом, ни ухом, и хотел бы обнять, – не обнимешь.
368
![]()
В монастыре у о. Никиты останавливались. О. Никита- «Глист» когда-то жил в Андрониеве.
Тощий, с голым черепом. Узенькая трясущаяся седая бороденка. Вытаращенные мутные глаза. Неистощимо болтлив. А врет необычайно.
Келья крохотная в перегородочках. Над трапезным столом ярко намалеванная картинка «Блуд», изображающая жирную с огромными грудями женщину в кумачном сарафане, у которой вместо ног – чешуйчатые желтые лапки.
И этот «Блуд» был поджигающей искоркой для воспоминаний и рассказов вообще.
Поглаживая одной рукой бороденку и размахивая другой, упившийся о. Никита приходил в неописуемый азарт и в заключение всякий раз ронял рюмку. Глупозабавный стон разбитого стекла покрывался хохотом, и хохот разлетался далеко за. ограду.
– Монах – дурак! – Монах – дурак! – бессмысленно высвистывал скворец, выпрыгивая из-за перегородки.
Финогеновы принимались приветливо. Подростков братия особенно любила. Кругом глушь, о жилье и помину нет. Зимой белый снег да черные деревья, да колокола.
Устав – скитский: женщины в монастырь доступа не имели, за исключением каких-нибудь двух-трех праздников.
В монастыре много жило мальчиков-монашков, составлявших удивительно стройный хор...
– Есть у нас Сарра, – ухмыляясь, подмигивал о. Никита, – бестия... Да. Голос херувиму подобен, а лик блудницы... Иероним с Нафанаилом из-за мальчонка намедни поцапались... Хе-хе-хе...
Прискучивал монастырь, сосало под ложечкой, – домой возвращались.
Настигни ночь – долго в дверь приходилось стучаться.
– Кто вас разберет, девушка? – спросонья встречала Прасковья, высовываясь головой в форточку, – может, вы и воры, аль разбойники...
– Маменька, отопри Христа ради, – просил Прометей, – голубушка, жрать больно хочется!
– Мало што. И кто об этакую пору шатается? Слава Богу, не постоялый двор! Прими, девушка, копеечку и иди подобру-поздорову.
Только когда подходил Прометей к самому носу матери и на-
369
![]()
чинал вертеть лицом и ощериваться, – нянька узнавала и шла отпирать...
Проспавшись, с утра садились играть в «Короли».
Вместо бабушки Анны Ивановны постоянным жильцом была Арина Семеновна-«Эрих», сестра Прасковьи.
В очках, беззубая, поводила она табачным носом, выискивая всюду и везде одни непорядки. Нюхала здорово.
За картами плутуют, задирают, ссорятся.
– Институтка, – подтрунивает Прометей над теткой, – подвали, брат!
– Шестерка, – шипит Эрих.
Последним чином всегда остается Прасковья, над которой долго и много смеются.
Убито вздыхая, огорченная, садится она за штопанье, а штопанья с каждой стиркой прибавляется корзина за корзиной.
Вечерами отправляются в церковь к храмовому празднику.
Там время проходит весело: с усилием протолкавшись сквозь давку к амвону, возвращаются к паперти и, измученные, толкутся опять к амвону.
Стараются давить на ноги и пихать кулаками под что ни попало.
Переругиваются.
– Бешеные! – огрызаются молящиеся.
По четвергам и понедельникам ходили на бульвар музыку слушать.
Приходили туда спозаранку, когда, кроме одиноких пар да ребятишек, копошащихся в грязновато-сером сыром песку, никого не было.
И только когда скрывалось за дома солнце, набиралась публика; все аллеи затоплялись, и двигались, и двигались гуляющие куриным шагом, пыльной стеной взад и вперед.
А ночь зажигала по мостовым каплей своих светильников-звезд тусклые фонари и пластом залегала над дремлющим днем, отравленная и непокойная.
Все перемешивается, срастается в шумяще-крикливое, расползающееся тело.
Мальчишки, унизывающие все выступы и карнизы эстрады, гикают и свистят.
Шныряют назойливые бутоньерки.
Цветы, мыло, пот, незалеченная болезнь, все это кутает смеркающийся бульвар.
Внимательно слушавшие музыку, выбираются теперь Финогеновы на главную аллею и принимаются упорно приставать, не пропуская ни одной женщины.
370
Короткие и изодранные их шинели бархатит сгущающаяся тьма – эта баловница из баловниц и потворница из потворниц. Завязывается множество мгновенных знакомств и все с такими красивыми, с такими хорошими и так просто, легко, без стеснения и без приличий...
Последний музыкальный номер: «железная дорога».
И сколько треска и звона и хлопанья!
Всей гурьбой, озираясь, направляются в пивную. И там, отпивая жиденькое дешевое пиво, едят сухарики, воблу и всякую гадость.
Пивную запирают.
Уходить, – а куда пойдешь в эту ночь?
И нехотя и медленно плетутся домой. И поют, орут на всю улицу, пристают, останавливают прохожих женщин.
От одного бульвара дорога к веселым домам повертывает. И они повертывали.
В дорогие не решались... Выбирали который похуже.
Войти в дома ухитрялись всякими манерами: то с видом донельзя пьяных, а то будто и по-настоящему...
И хохочут, насмехаются женщины над напускным ухарством, над смущением, невольно пробивающимся на вспыхивающих еще детских щеках, и только один Прометей, раскуривая папироску, с сознанием собственного достоинства, как заправский гость, как у себя дома, расхаживает по залам.
Скрипач настраивает скрипку, играть пробует.
И сколько тоски, боли в этих звуках, увязающих в спертом дыхании завтрашней смерти.
Земля обетованная!
Крылья мои белые, тяжелые вы в слипшихся комках кровавой грязи...
Земля обетованная...
..................................................................................................................................................................................................................................................
Если силой не выпроваживают, то все равно уходить приходится.
И прыщеватый вышибало с обидной ужимкой мелует на спине каждого непрошеного серый крестик в знак позора и презрения.
И вот позднею ночью с надорванным и неутоленным желанием чего-то хорошего и страшно привлекательного, что вот совсем подходило и миновало, с желанием любви и ласки, они не могут замкнуть глаз, и этот позорный крестик жжет спину.
А утро пасмурное и ясное утро сулит ту же старую жизнь.
371
И таким отдаленным, таким недосягаемым встает будущее, непременно своевольное и огромное, которого так хотят, так ждут...
XVIII
Ее звали Маргариткой.
Было ли это крещеным именем или прозвищем того дома, где жила Маргаритка, но так величали ее и Аграфена Ананиевна – хозяйка с деревянно-одутловатым лицом и чрезмерно полным бюстом, и товарки, начиная с малюсенькой Кати и кончая великаншей Пашей, даже вышибало Василий, отправляя свою ночную службу, тенорком покрикивал: «Маргаритка, брысь ты, сукина чертовка, брысь говорю, рожу раскрою, Маргаритка!»
С тех самых пор, как начала она помнить себя, лишь одно знала: во что бы то ни стало нужно бегать за прохожими и приставать подать ради Христа копеечку.
Пока в кулачке не наберется двугривенный.
И все ее маленькое, худенькое тельце ежедневно прихлопывалось одним единственным желанием, одиноко впивающеюся, неразделенною мыслью.
Прихлопывалось со всех сторон, прихлопывалось непременно с утра до поздней ночи и ночью в детском, зябком и голодном сне нищенки.
Как-то присмиревшим темным осенним вечером попался на дороге старичок один с большим зонтиком, затащил девочку за кузницу...
– . . . . подтер тряпкой и вот что дал! – рассказывала после девочка, показывая новенький золотой детям-нищим, с завистью топотавшимся вокруг нее.
За золотым бумажка, за бумажкой – гривенник, а там и в часть взяли.
В части билет выдали.
Так и пошло.
Пятнадцати не было, встретилась она с Аграфеной Ананиевной.
Хозяйка то и знай похваливает Маргаритку и за проворство и за лакомства, какие та гостям дать могла.
– Из всех девушек, – рекомендовала она своим приторным голосом, клокотавшим площадной руганью, – Маргаритка у
372
меня – чистая, ласковая, сахарная и по-фрайцузскому может...
– Камàн савàл*, Аграфена Ананиевна! – подтверждала Маргаритка, появляясь невинная с павлиньим хвостом.
– Мирсити**, го-го-го! – одобряла хозяйка, рвотно кривя свои синие губы.
* * *
Когда Коля в своей драной шинелишке с вытертыми золотыми пуговицами, посреди которых от носки маслом расходились кирпичные, ржавые пятна, пробирается по переулку и затаенно, будто мимоходом, занятый очень серьезным и важным делом, посматривает на окна двухэтажного дома,, выделанного разноцветными камушками под мозаику, – в домах растворяют ставни.
В одном из верхних высоких окон появляется Маргаритка – такая маленькая, остроглазая, с розовым, вздернутым носиком и низко спущенной на белый лоб холкой темных душистых волос.
Она скалит свои острые, кошачьи зубки, глядя куда-то поверх низкой, угольной крыши дешевого, противоположного дома.
Крохотные напудренные грудки выходят из широко вырезанного ворота и, как две глыбки, тают под закатным лучом золотым, малиновым, и кажется, это руки осовевшего солнца богатые, баюкая, бродят по ним.
И таким ничтожным представляется он самому себе, таким гадким и, горбясь, унижая себя и надругиваясь, медленно и как-то очень скоро проходит весь длинный переулок, бездомный, дорогой... и, поравнявшись с последним красным солдатским домом, возвращается, теперь поспешно и как-то очень, очень долго.
Маргаритка и заметить может...
Ему вспоминается всякий раз, как, проходя вот так же, повстречался какой-то монах, зорко засматривающий в верхние окна, и как Маргаритка, заметив монаха, визгливо затянула кабацкую песню:
Луче в мори утопиться
Чем попа карявава любить...Монах, наклонившись на бок и размахнув руками, пустился улепетывать.
_______________________________
* Comment ça va – как поживаете (искаж. фр.). – Ред.
** Merci – спасибо (искаж. фр.). – Ред.
373
«А ты чего, грифель?» – крикнула тогда Маргаритка прикованно стоявшему Коле.
Маргаритка и заметить может...
И страшно: она посмеется над ним, оскорбит... оскорбит себя.
.................................................................................................................................................................................................................................................
Иногда она сидит бледная и такая грустная.
Кажется, живые глаза над своим гробом плачут.
Подойти бы приласкать тогда...
Подойти бы...
Но пробраться в дом никакой не было возможности, дом был дорогой и недоступный.
Как-то сунулись всем кагалом и тотчас полетели с лестницы.
«Всякая сволочь туда же, – кричал вдогонку вышибало Василий, стукнув Прометея в загорбок, – я вам, паршивцы, сволочь!»
И жгла недоступность.
Огненно-красным кольцом окруженный образ непорочный, из ада звал к себе, рассекал с головы до пят и кликал, тянул и рвал на наслаждение, на гибель, на победу, в пропасть, в пожар, к причащению.
И Коля ходит по переулку под окнами дома и, стиснув зубы, думает крепко.
Темнеет.
Скрипач настраивает скрипку, играть пробует.
Земля обетованная!
Крылья мои белые, тяжелые вы в слипшихся комках кровавой грязи...
Земля обетованная...
Крылья мои белые, живые вы, унесите меня!
* * *
Возвращается Коля изнеможенный, издерганный и, путаясь, помногу рассказывает, как задачу ученику решить не мог, рассказывает, как на уроке вином красным угощали... выдумывает небылицы, но правды... о правде сердце горит...
Земля обетованная!
XIX
Нередко по вечерам выходят дети за ворота, на лавочку посидеть.
374
Круг фабричных не тот.
Это новые все, не знавшие ни матери, ни их детства.
После бунта двор подчистился.
Старики перемерли. Ну Иван Данилов не в счет: занедужился кузнец, ослаб: за сказку примется, плетет, плетет, да так и не кончит.
Один Максимчук, получивший и в самом деле с блюдечко серебряную медаль, по-прежнему неистощим, как во дни Аверьяныча.
Разговоры вертятся обычно около дома и фабрики.
Но странно: теперь, когда все подвыросли, незаметно встала глухая стена и отделила детей от этих замученных трудом людей.
Горько, бесконечно горько становилось, когда увлекшегося жалобой вдруг грубо осаживали его товарищи, и тот виновато примолкал, а в вспыхнувшей злой улыбке горькое слово горело: огорелышевское отродье, одна цена.
– Огорелышевское отродье...
–Яблоко от яблони недалеко падает...
Ты выйди нежданно за ворота и услышишь.
Как кипятком ошпарит.
Часто слышали дети.
И Прохор, бравший одно время книжки у Саши, умный и развитой рабочий, уходил в себя, таился и, когда кто-нибудь из детей заговаривал с ним, отмалчивался
– Чего попусту языком молоть?
А в своем кругу, захлебываясь, не умолкал, рассказывал, излохмаченный, прокопченный, с горящими глазами, готовый и в огонь и в воду за свое дело.
Интересное и живое билось в этих вывертах – словах- огоньках. И синие жилы на черных руках Прохора наливались кровью.
И забитые, робкие головы других выпрямлялись.
И летели искры под грунт белого крепкого дома, под фабричный корпус и там таились, ждали, невидимкою жили... чтоб разрушить, не оставить камня на камне.
– Барин, а весь зад наружи...
– Без сапог, да в шляпе.
– Тоже господа – голоштанники!
Ты подвернись под сердитую руку и услышишь.
Как ножом полоснет.
Часто слышали дети.
И горечь закипала на сердце.
375
Зачем эти стены, кто их вывел, кто отделил ими голос от голоса, сердце от сердца.
Проклятые стены!
Но по старой ли памяти или оттого, что уж деться некуда было, только нередко по вечерам выходят дети за ворота, на лавочку посидеть.А после наверх в «короли» садятся играть или так слоняются без всякого дела, придираясь и раздражая друг друга.
Прометей зеленел и озлоблялся: ни войны, ни жизни настоящей, а тут еще фабричные... Поколачивали, был грех.
После вечерних скитаний, когда впереди ничего не предстояло, любил Коля оставаться один в саду около пруда.
Тяжелое смутное чувство, растравляемое просыпающимися мыслями, заразною пылью точило сердце.
Вот ему минет семнадцать. Училище кончит. Сядет за конторку в Огорелышевском банке. Глаза в графленую бумагу вопьются, выльются, и свет их загаснет. В мелкие буковки, в цифры, совсем ему ненужные, этот свет обратится.
И мелкие буковки, цифры, совсем ему ненужные, уж, кажется, сливаются, и бумага топорщится, твердеет, из белой в черную переходит.
Черные огромные клещи голову закусывают...
Это то, что будет, – он ясно видел, больно чувствовал.
А разве этого хочет?
И почему он должен считать на счетах и вечно сидеть за конторкой?
Почему он должен?
Коля пробовал латинский и греческий, лишь бы избавиться от этой ожидавшей его каторги. Ночей не досыпал. Сразу все хотел. Да так надорвался – плюнул, забросил учебники.
Да, сядет за конторку в Огорелышевском банке. Глаза в бумагу вопьются, выльются, загаснет их свет...
Пруд молчал. Стыло молчание на страшной невозмутимой глади.
И с илистого дна, из ледяных ключей вставал образ женщины, такой горячий и близкий и темный, темный, как эти тени уснувших рыб в солнечный день.
И сверкали острые, кошачьи зубки – зарябившиеся струйки под поцелуем лунным, и милые уста зацветали ласковым словом, кликали...
376
А там ночью, когда замирали вечерние гулы, прибегала в сад Машка – Машка Пашкова, тоненькая, беленькая, с туго стянутой игрушечной грудкой.
– Николай Елисеевич, можно походить с вами? – просилась девушка, и горели ее глазки, и голосок задыхался.
И Коля ходил с Машкой вкруг пруда и, когда та ластилась, закрывал глаза, и искал рук других, проворных и маленьких рук Маргаритки... и, нагибаясь, целовал руки Машки, большие и жесткие.
– Гляньте-ка, звезды-то какие! – таращила девушка удивленные глазки, заволакивающиеся влажной шелковинкой влюбленного сердца.
И она что-то щебетала, и жизнь входила в ее детскую, надорванную душу, и она жила, как во сне желанном.
– У «душки»-Анисьи коровушка отелилась, теленочек маленький... А дяденька Афанасий, покойник, сказывал, будто рыбы – с усами бывают, сам, говорит, видел.
Коля, не отвечая, прижимал ее вздрагивающее тельце, прижимал крепко, все крепче.
– Тоже... и... китов ус...– и голос Машки пресекался.
Как-то последним летним закатом после Ильина дня, когда, по поверью, олень мочится в воду, и оттого вода холоднеет, а лягушки на дно спать ныряют, было прощально тихо, прощально горько в разросшемся, густом, поникшем в рдении над прудом саду.
Листья желтели.
Падали листья без стона, без жалобы.
За плотиком поспевала дикая малина, у купальни барбарис весь завешивался рубинной бахромой, и рябина у беседки верх опоясывалась крупными кораллами.
Прибежавшая в сад Машка, сначала такая радостная, вдруг присмирела и хоронилась пугливо, она чувствовала крылья, трепетавшие у Коли, трепетавшие и готовые улететь, унести ее.
И она схватилась за него, повисла вся.
И они ходили вкруг пруда, вкруг пруда.
И ходили долго, много, горячо прижимая друг к другу одинокие, родные сердца...
И сердце их билось – вырывалось, как отрытый заваленный ключ, и сердце их шепталось веще говором звезд осенних, сердце, перемучившееся тяжкой недетской мукой.
377
Кто ты?
Все равно, лишь бы жить... жить...
Любите же меня, любите!Любуйтесь на красу прощальных взоров.
Вся кровь моя при первой встрече, при легком дуновенье смертельной стужи щитом багряным, покрыла грудь мою.
Я золотом и тусклым серебром устлала все дороги.
В моих глазах последний жаркий трепет заблистал.
Я ухожу от вас...
Любите же меня, любите!
На небе зори яркие уж зиму возвещают, и слезы, не иссякая, льются из мутной тучи.
Настало время уйти от вас...
Но пусть же мой прощальный взор, и жажды и забвенья полный, безумьем пышет...
Пусть красота идет аккордов грустных, земле холодной, цветам увядшим!
Любите же меня, любите!
XX
Осени поздней переменно-дождливые дни.
Поздней осени плачи.
Груды ленивых, прогорклых листьев по дорожкам вкруг пруда.
Паутина замерзла.
Подмерзла калина.
В комнатах вставлены серые, скучные рамы.
Окна заложены ватой.
Запах замазки и дыма.
Топятся печи.
Осеннее утро залезает за ворот и холодными пальцами водит по горячей спине...
В училище сумрачно тянется час.
И сипло кричит прозябший за ночь звонок перемену.
Коля и Женя перешли этим летом в специальный бухгалтерский класс. Им, как старшим, разрешается не выходить на перемене в зал. В классе обычно идет разговор о ночных похождениях; учатся все богатые и состоятельные: дети купцов и фабрикантов.
378
– Маргаритка, – донесся как-то до Коли перегорелый голос Семенова – «Совы», белобрысого купчика, – знаю! – Сволочь, кожа желтая, в рублевом...
Вошел учитель.
«Сова» зашептал на ухо своему соседу, и лошадиное нечистое лицо товарища затряслось и вспотело...
И загорелись классные стены от нетерпения.
И хотелось сейчас же бежать туда, видеть ее.
А час тянулся.
Была суббота.
Суетливые сумерки липли к щекам и глазам уличною грязью.
Застрявшее в переулке мутное ненастье лежало безгрезным водянистым сном. Нехотя растворились ставни в домах.
В угольном доме в черном окне масляным пятном прыгал-расплывался подозрительный свет.
Коля пробрался к дому.
Конфузливо спросил Маргаритку.
Сказали подождать.
Вышибало Яков, заспанный и обрюзглый от бессонной жизни, поплевывая, чистил ботинки.
Перечистил одни, перечистил другие, сколько было пар – все кончил, отнес. За юбки принялся.
Наконец, вышла горничная, повела в спальню...
Переступил порог.
Маргаритка стояла перед зеркалом в кружевных панталонах, причесывалась.
– Вам что нужно? – не оборачиваясь, спросила она с полным ртом шпилек.
Коля стоял и молчал, стоял и смотрел... и смотрел...
Только ручки одни проворные мелькали в глазах.
Обо мне ты не-е мечтай...
Запела тихо и, закрутив косу, подергала плечом, и опять распустила волосы.
На самой макушке белое пятно - лысина – пластырем лежала... Этот пластырь лез теперь в влюбленные глаза.
– Ну? – вдруг обернулась.
– Я к вам.
Коля сказал это резко и твердо, резко и твердо сделал шаг...
Еще и еще.
379
Вытаращила красные запудренные глаза.
– Деньги вперед! – сухо сказала.
– Я не затем, я...
– Деньги вперед! – вдруг закричала Маргаритка, и хрип тащил из ее горла крики, – вы... хозяйку подводите, оборванцы! Встать по-людски не дадут, жить не дают, жить – не дают.
Задохнулась.
А у него горло свинцом налилось.
И озноб сморщил кожу и сдавил льдом раскрытое сердце.
Раскрытое сердце от боли вскрикнуло.
Бросился, обнял, впился в плечи...
И целовал, целовал бесконечно.
Плесень, соль, слизь мазали губы, душный мутил запах.
– Дорогое, бесценное!
Незабеленные раны сочились; казалось, мясо распадалось, отваливалось кусками.
– Дорогое, бесценное!
– Вон! вон!!! – взвизгнула, задрожав, вся возмущенная женщина и, отпихнув кулаком, сжалась и затихла, как дитя беззащитное.
А он, не смея взглянуть, медленно вышел...
Моросил мелкий дождик.
Всхлипывало месиво грязи.
Разлагались нечистоты.
И пламя фонарей под щипками чьих-то злющих пальцев ширялось по ветру.
И было жгуче-мутно.
Вспомнилась Машка.
– Машка, как она тебя любит!
И два женских образа, шепча, сливались во единый – одно тело, тело покрывалось струпьями, назревающими, синекрасными, и пыхало запахом мази и гниения.
Сердце прогнивало до пустых жил.
– Маргаритка, – рассказывал как-то на перемене «Сова» отдувавшемуся соседу Прохорову, – сволочь: Кукина болезнью наградила, сволочь...
Коля зажал уши и, не сказавшись, вышел из класса.
Плелся домой.
Казалось ему, заболевала улица.
380
А на губах ныло.
Огромная язва выплывала из мглы туманно-холодящего полдня, сине-белая, синяя...
И по пятам гналась гнусавая музыка.
И у плетущихся ломовых в телегах между колес и грязью явственно копошилось что-то и пело горькую пьяную песню веселых домов.
Было мутно.
Сердце прогнивало до пустых жил.
XXI
Последний выпускной экзамен, русский, пронесся градовой тучей, но беда миновала.
И Женя, и Коля с пустыми аттестатами, лишенные за неблагонадежное поведение звания «кандидатов коммерции», пришли домой, вошли наверх, что-то сделать хотели, кому-то рассказать, и ничего не сделали, никому не рассказали.
Даже обидно стало: и ждать-то больше нечего.
А потом из глубины ночи выплыло одно слово, выплыло и остановилось перед испуганным лицом,...
– Нет, – нет, – нет... – спохватился Коля.
Спустя несколько дней Женя напялил изодранную курточку, снял с форменного картуза герб и пошел в Банк.
И там томительно-неловко ожидал-дядю, толкаясь в приемной.
Наконец, приехал Алексей, выругался «для острастки» и велел всякий день приходить Жене вон в ту комнату с ярлычком...
И пошла с этого дня служба.
А Коля ступал к роскошному подъезду старинного дома с колоннами в Воронинском саду.
Лакей провел в классную.
Коля сел к окну и ждал.
Ждал.
И, горячась, доказывал себе, что глупо вести себя так, что уж не маленький, и робеть нечего; а чувствовал, что с каждой минутой робеет больше и больше, сжимается, становится маленьким-маленьким.
Потом встал, походил по комнате.
381
Не раз и не два ловил себя, что ходит на цыпочках, и злился.
Принялся велосипед ковырять. Отвинтил колесико...
– А, – ты что? – послышался голос дяди Николая.
Коля вздрогнул.
– Благодарю вас, – начал Коля сипло, невнятно и остановился, потом едва-едва: – благодарю вас, дядюшка... – и опять остановился.
– Что собираешься делать?
Коля молчал, теребил ремень.
– Если ты рассчитываешь поступить в высшее учебное заведение... то не забывай, средств нет. Да, я понимаю, мои дети, да, они могут, но тебе с ними равняться смешно!
Коля покраснел, захолодел, руки было упали...
Вдруг что-то большое и непонятное чугуном загремело в ушах, подкатилось к ногам лестницей, и поднялась лестница от сердца вверх.
– Я латинский прошел, – проговорил он не своим, режущим голосом и облизнулся от удавшейся лжи.
Дядя мягко прошелся по комнате, поправил в петлице молочную ветку туберозы...
La donna è mobile
Qual piuiriö al Vento...– Как знаешь.
Коля выскочил на улицу.
Какая-то радость до крови кусала сердце, и тьмы казней бледных и мучительных подбрасывали нежданно под ноги свои кривые мучительные пытки.
И хотелось мучить, казнить насмерть.
Прошла неделя, прошла другая – никто ничего не говорил, никто не назначал часа, не приказывал являться ни в Биржу, ни в Банк...
Пришла зима – подарила.
Через управляющего Андрея позвали детей на вечер в дом к Огорелышевым: Алексей справлял серебряную свадьбу.
Сначала уперлись, потом раздумались – поддались и пошли.
И в первый-то раз так близко перед глазами зашумел огромный зал, запестрелся платьями, цветами и лицами.
Пышные шлейфы овеяли музыкой, обняли ноги.
382
Дети прижались друг к другу, пристыли.
Странным светом горели тяжелые люстры.
Из целого сада цветов выплывали подхватывающие звуки и, о чем-то напоминая, призывая куда-то, обещали...
Сердце колотилось.
– Вон, это – Полинька, двоюродная сестра, посмотри, какая красивая!
– А Кукин-то...
– Наш директор...
И много, много мелькнуло еще лиц, таких важных и так близко теперь.
Вдруг танцы остановились.
Зал затеснился; расступались и кланялись.
Мимо прошел высокий, на голову выше присутствующих, генерал, мутно обводя глазами и улыбаясь вылощенным ртом – сам князь.
Рядом с князем шмыгая Алексей, подобострастно заглядывая и уж слишком уверенно хихикая.
– Финогенов! – хлопнул по плечу Колю товарищ по училищу, Корзинкин, раскрасневшийся и запыхавшийся, – ты как сюда попал!
И стало вдруг обидно до слез и от обиды хотелось выкинуть такую штучку, чтобы весь этот зал, этот князь в тартарары повалились.
Дети прижались друг к другу, пристыли.
Никто из них не умел танцевать.
Были они дикие и оборванные, и от пиджаков и мундиров несло подгорелым стеарином.
Никто с ними не здоровался, но, казалось, все знали и чувствовали их, как что-то чужое и ненужное, хуже – отвратительное.
Никто ничем не угощал.
А из соседних комнат проникали звоны хрусталя и тарелок, и вышибались пробки, и что-то, пенясь, журчало.
Двоюродный брат, Дим, сын дяди Николая, в новенькой путейской форме, сам какой-то весь новенький, взмахнув руками, громко прокричал что-то...
И понесся, полетел за ним зал.
Пьяные звуки кружились, стучали.
И лететь бы за ними, лететь вечно...
И те женщины, которых дети встречали и знали, преображались в красавиц, в этих чистых и белых сестер и знакомых.
Да, любить таких вот и жить не в грязи, а так вот...
383
И минуту, забывая свой дом, жили этой жизнью и, обданные горячим паром духов и красивого тела, чувствовали свою красоту, и на сердце таяло.
– Отправляйтесь-ка вы лучше по домам! – ударил знакомый жуткий голос дяди.
И они молча, гуськом, спотыкаясь о ковры и проталкиваясь между лакеев, которые, казалось, пронзали их насмешливыми глазами и знали... вышли они из дому.
И молча неровно шли по двору, не глядя друг на друга...
Потому что глядеть нехорошо было.
Вид делали, строились, что ничего-то такого не произошло, чего бы стыдиться, и отчего мучиться надо было.
А на живом месте раскрывались раны и ныли тупою болью.
Саша и Женя, Петя и Коля, все одно чувство несмутно чувствовали.
И взошли наверх и, не глядя на Прометея, который почему-то нарядился празднично в свою «солитерскую» визитку, разделись и легли в кровать.
И тотчас притворились спящими и не спали, не могли спать.
Казалось, кто-то высоко подымал их до самого неба, и там над землею они качались.
И было страшно подумать, страшно вздохнуть, страшно взглянуть в свою душу...
Потому что глядеть нехорошо было.
А утро морозное, утро крепкое золотом-хохотом пылало и нанизывало белой рукой расцвеченный жемчуг на окна.
XXII
Саша успешно переходил с курса на курс; университетские дела не увлекали, не увлекала и наука.
Тянуло к резким ударам, ударам плашмя, выворачивающим целину, а остальное, думал он, не больше, как замазка, а всякий иной шаг – царапина.
Для тех, кто знал Сашу еще гимназистом, этот переход из смиренника-монаха в монаха-революционера казался невероятным.
Расточить жизнь; ступить гулко по земле, бросить вызов, дерзнуть, сгореть – все это создало у него целую систему действий во имя какой-то новой жизни, которая должна взойти на этом огне и крови... на жертве.
И так жил он, углубляя и развивая свою думу, и был уж на краю последней ступени. С которой смерть видится, и не боялся смерти. Искал ее.
384
Общие черты его лица остались те же, только более углубились и возмужали: заостренность отточилась, и глаза подернулись сталью, заковались; темные усы и борода выдвинули скулы, а на лбу обозначились впадины, губы же по-прежнему не сжимались плотно и, скрывающиеся частью под усами, обманывали наружность.
Если бы спросить его, что греет в нем его душу и синит его мысли, он ответил бы твердо: нет примирения.
И во имя непримиримости он подавлял в себе чувства, но чувства не хотели смиряться и кричали и, онемев, царапали сердце.
С глубокой горечью обманувшегося прекратил он всякие общения с о. Глебом, и все греющие лучи-мысли старца представлялись ему теперь засоренными источниками, мутным светом сквозь снежное небо.
Люди, с которыми он имел дело, топорщились быть большими и вершащими судьбы, подпевали и пересказывали его слова и топтались на месте в трескотне пожеланий. Он презирал их, но держался за них как за силу, без которой обойтись невозможно было.
Стал он так думать только в последнее время, а раньше верил всем сердцем, все сердце готов был раскрыть им.
И точил сердце червяк маленький, тщедушный, а живучий, как самое гадкое из всех насекомых.
Правда, были друзья, скорее, один друг – это Сергей, брат Алексея Алексеевича, с которым он всю кашу заварил и дошел рука об руку до той точки, откуда, как казалось, открывался один путь – путь в безпримирение.
Ступить гулко по земле, бросить вызов, дерзнуть, сгореть – расточить жизнь...
И шли дни кипуче – прямо до ожесточения, вспыхивая то радостью от правоты, то режущим мучительным гнетом тоски исподних заваленных сомнений.
Петя не румяный, как раньше, побледневший, потягивал свои рыжеватые усы, совсем равнодушный к увлечениям Саши.
По целым часам просиживал он у окна за стаканом пива и все думал о чем-то, глядя за монастырь, за белые башенки.
И казалось, сидеть бы ему так, сидеть всю жизнь, гадать и загадывать...
А когда подымался между братьями спор, он ни с кем не соглашался, но и своей отповеди не давал.
Во всех его ответах звучало тысяча правд, и все они, как лис-
385
точки на ветке, жили на одной правде, но имя ее он не умел высказать, и, путаясь, мучился.
И, измученный, принимался за рояль.
Пел.
Пел так чисто и ярко, до слез и восторга.
И, напевшись вдосталь, шел наверх, садился у окна за пиво и молча просиживал часы, день, день и вечер, вечер...
День роспуска на Святую был в этот год редким днем в жизни Пети: до экзамена его допустили, и пришел конец его долголетнего гимназического мытарства.
Целых двенадцать лет таскал он ранец, двенадцать лет долбила, долбила проклятая гимназия.
Хуже тюрьмы.
По давно данному обещанию была всеобщая попойка и, по обещанию же, торжественно Петя лег посередь улицы в лужу, бултыхаясь, грязнил и мазал проклятую шинель.
А Прометей, коноводясь и развертываясь, накачался до такой одури, – сряду два дня без просыпу спал и, очухавшись только на третье утро, совсем обалдел и никак не мог отчета себе дать, где он, и кто вокруг него, и как зовут его: только одну Эрих, ненавистную тетку, он чувствовал и морщился, моргал, как от какого-то света яркого.
– Очхнись, полоумный! – усовещевала Эрих, – мать родную не узнать! – нечистому, видно, и душу-то свою собачью пропил.
– Господи, никаких концов не найти!
– Насосался!
– Напущено, девушка, – горевала Прасковья, – и молитва не помогает.
И долго-долго возились с помутневшим человеком, щипали и щекотали его, легонько перышком в носу шевелили, горчицей мазали, пока он не сорвался из комнаты вон на воздух.
И там метался, как ошалелый, и не мог прийти в себя, успокоиться.
И вдруг схватил полено и с какой-то тупой радостью ударил в подвернувшуюся собачонку, будто в ней его тревога, все безумие хоронилось.
С перешибленной лапкой, визжала собачонка.
Прометей отдышался.
Подняли собачонку, пустили в дом.
Лежала она у Саши на диване, подвернув перешибленную лапку, и плакала этими невыносимыми слезами, молча.
386
И Прасковья плакала:
– Молитва не помогает!..
А Прометей все заглядывал в комнату и виновато справлялся у Саши, не прикажет ли тот пройти куда или сделать чего?
И во всем доме было нехорошо, все тяжело помалкивали, будто на сердце у каждого лежали такие собачонки с перешибленными лапками и плакали этими невыносимыми слезами, молча.
Вот и всегда так, со смерти матери, как подходила Святая, наполняло дом что-то черное и гнало из комнаты в комнату вон из дому.
И бродили дети по комнатам и по двору и по саду, нигде не находя себе места.
На дворе дрова лежали по-прежнему и ходила фабрика и сновали рабочие, злые и жалкие, а сад просыпался и пруд оттаивал и, оттаивая, знал что-то, он знал их маленькими и мать их знал, и знал то, что завтра будет.
Вот и всегда так, со смерти матери, каждый чувствовал это, и чувство это сгущалось и темнее и темнее заволакивало душу.
Коля, измытарившийся за год, жил бестолочно, ровно ни на чем не удерживаясь.
Все расползалось и ускальзывало... дразнило и не давалось.
Как на грех, Машка забрюхатела и чуть не померла. А умри она, пожалуй, гора бы с плеч! Вынесла. Оправилась.
Согнали ее с фабрики. На квартиру перебралась и промышляла чем-то, добывая себе на пропитание и жизнь каторжную.
Много было столкновений с Огорелышевыми, но больше всего влетало теперь Жене, которому волей-неволей приходилось на глаза попадаться, и молча отдувался Женя за себя и за братьев.
А на дно их сердца камушек за камушком падал и устилал дно каменной корой, болело сердце от обиды и бессилия.
XXIII
Приснилось Коле, сидит он будто наверху, в окно смотрит.
Весь пустырь под монастырем распахан. На дальней гряде разрывает ворона черный ком. И клюв черный и перья черные, а глаза красные.
Почему у вороны глаза красные?
В дверь входит девочка. Белый платочек в руках комкает.
Безглазая. Хочет девочка в беленький платок душу положить.
387
Безглазая. И убежать бы, да ноги не слушаются. И от ужаса расщепляется сердце на мелкие щепки...
Перед кроватью стоял Саша, говорил что-то, но что, Коля разобрать не мог.
Осколки сна немо с болью таяли, и подплывала к сердцу радость, что так счастливо опасность канула.
– Вставай! вставай! в Андрониев пойдем, к обедне.
И комната в ярко-желтых лучах, льющихся золотой густотой на сонные предметы, показалась особенной, золотой, и голубой дым папиросы, увязая, цапался и, обессиленный, сдаваясь, таял.
Посередь комнаты, уткнувшись в сапог и подобрав согнутые ноги к подбородку, валялся Прометей, поскрипывая зубами.
Коле вдруг вспомнился прошедший вечер, вспомнилась пивная, в пивной драка...
Зарезало в глазах, и опять повалился.
– Да ты поскорей! – заторопил Саша, и то особенное, что прозвучало в голосе брата, вывело Колю на свет Божий.
Проворно оделся, и они вышли.
Несмотря на раннее время, летне парило. Даже в низких местах как-то сразу истлел снег, а лед, до крайности напряженный, лопнул, и серый слой воды поплыл по реке, и пошла река.
В Андрониеве звонили к обедне, нарядно звонили, как только звонят на пасхальной неделе.
И под этот звон утренний доносил ветер чуть внятный далекий шум и бурленье воды.
Монастырь стоял весь белый, весь в солнце, и жарко горели золотые шпицы круглых башенок.
Идти было легко; влажная теплая земля не трудила ног, а изгибалась воздушно, и хотелось попирать ее, попирать все глубже.
На откосе к реке зеленела травка тоненькая, светлая.
– Вон и одуванчик! – крикнул Коля и мигом спустился вниз, сорвал цветок и так весь ушел в него, лаская, голубя и радуясь этому солнцу, земле и цветку первому.
Вдруг опять встало вчерашнее, зацепило, и отделаться не было сил.
Выронил цветок.
Шли молча.
Коля восстановлял подробность за подробностью, приближал эту мерзость к самым глазам, вдыхал ее, отвращался и опять лез на нее... но взглянуть поглубже, чтобы отойти прочь, было страшно... и путался неоплаченный счет, драка, и какие-то плевки и харкотина покрывали все.
388
Саша цеплялся за последнюю гнилую нить, обрывался и падал.
Одного желал, одного искал – выместить свою злобу, расплатиться с кем-то за эти ночи, от которых сердце лопалось, за то свое дело, которое совершить хотел; и для чего, для кого столько убито сил?..
Дальше нельзя, нельзя... все нити подгнили.
А ждать-то как...
Нет, он непременно пойдет, скажет им всю правду, все выложит прямо в глаза, – пускай делают, как знают.
Воскресения день!
И просветимся людие
И друг друга обымем...– вырвалось пение из раскрытых окон собора, когда, поднявшись по лестнице на монастырскую гору, вошли в ограду.
В соборе стояла давка, еле на паперть пробрались.
От свечей и ладону душно стало. Но пение и то чувство, которое жило вокруг, были такими легкими и особенными, как бывает только на пасхальной неделе.
Потолкались и вышли на кладбище.
– А помнишь, Саша, наши службы? Мы бы тогда все молебны с акафистами выстояли.
Саша горько и злобно засмеялся.
– Ты уж совсем не веришь? – спросил вдруг Коля.
– Нет, – резко ответил Саша.
Подошли к склепу, сели на ступеньки.
Красный огонек поглядывал на них сквозь матовое стекло.
– А как же Глеб?
– Игра и дешевая: и почему бы я верил? – это и у меня есть и утех...
– Любви нет, любовь сон... Впрочем, я не то хотел, я насчет Глеба... – прервал Коля и чувствовал, как что-то мучительно-страшное подходит к его душе, что-то, чего душа еще не может сказать.
– Дан-дан! – Дара-дан-дан! дан! Дуу-доон – Дуу-до-он... – зазвонили шумно во все колокола.
Тронулся крестный ход с артосом.
Саша и Коля дошли в хвосте до башенки и, покинув процессию, стали взбираться по каменной холодной лестнице.
У самой двери Коля повернул назад.
– Я не могу, – сказал он тихо с усилием, будто останавливая другое слово, которое билось на языке и рвалось сказаться...
389
* * *
О. Глеб обрадовался гостю, похристосовался. Но был чем-то расстроен, или так уж изменился: губы, совсем сохлые, вздрагивали, и щеки потемнели, словно у мертвого.
Улыбался, но лежала на улыбке едкая горечь.
Пирский, послушник старца, принес чаю и пасхи.
Христос Воскресе из мертвых... – донеслось пение в башенку, – должно быть, крестный ход возвращался обратно.
Саша сразу заговорил о себе, рассказал об экзаменах, которые хорошо кончились, об университете, с которым он расстался, и, рассказывая так, он подходил к чему-то важному для себя, для чего, собственно, и пришел к старцу, но сказать не решался.
– А чем жить будешь, Саша? – спросил о. Глеб.
Ответил не сразу:
– Надо... надо новое создать, большое и крепкое, нерушимое навек.
– Навек из крови?
Саша хотел что-то возразить и задумался.
– Не верю я в них, – сказал он глухим голосом, – потому что... – и вдруг загорячился, – понимаете, только резкое разрушение, кровавый неминуемый бич, творит мечту в человеке. А они смерти боятся, любят свою жалкую жизнь, скучную, ведь задохнуться можно... С ними не выстроить... Они этой вашей любовью прогнили. Николай говорит: «любовь – сон», хорошо, пускай будет так, но к чему она?
Если она – сон, то сон этот для тысячи грезится мутно или совсем не грезится, и люди костенеют в этой изморози, глаза у них опускаются, сонные, они кутаются, зябнут и идут шажком и топчут полегоньку друг друга – эти братья милосердия – топнет, а сам посмотрит, не больно ли... А надо подойти и... вот так! – Саша сделал такой жест, будто ножом ударил.
О. Глеб привстал с кресла. Мускулы задергались на его лице, и руки принялись ловить что-то.
– Душа-то твоя... – едва проговорил ой.
– Душа! – захохотал Саша, – песчаная, выветрившаяся, туда и дорога ей, пускай останется одна, но такая... Ты возненавидь всем сердцем твоим, возненавидь крепко, и придет любовь...
Не хочу я, чтобы мою душу убивали, и не отдам я моего духа, я не отдам даром! – и, страшно побледнев, застыл весь, глядя в упор на старца.
390
О. Глеб запечалился, губы вздрагивали.
– Вот, Саша, думаю я, во имя правды мучают, за правду мучают.
А правда и там, правда и тут. Привели блудницу ко Христу, привели, потому что закон говорил, и ушла блудница непорочною...
Тесно, жутко, странно жить на земле. Ты говоришь: возненавидь, и придет любовь...
– А, может быть, Христа и вовсе не было? – подсмеялся Саша.
– Ты говоришь, надо новое создать, большое и крепкое, навек нерушимое... «Иисус же ста пред игемоном: и вопроси его игемон, глаголя: ты ли еси Царь Иудейский; Иисус же рече ему: ты глаголеши». Понимаешь, Саша?.. и если не полюбишь врага, нелюбовью измучаешься... а что твой нож и твоя кровь, ты послушай меня...
– Не могу я простить, – заерзал Саша.
– Ведь враг – не весь твой враг. Подойди к нему, загляни в глаза: глаза горюют. А ненависть не зальет и не ракроет тебе этой горечи.
Жгучий стыд, что вот он, родной тебе, такой вот...
Нет, ты подойди к нему, загляни в глаза...
– А он захочет?.. Да он тебя ножом пырнет. Ха, ха, ха. Он с тебя шкуру будет драть, а ты с губами потянешься, ха, ха, ха...
– Я знаю, слушай, Саша, но ведь есть путь...
– Я подходил, – с горечью перебил Саша, – я подходил, руки мои протягивал, а они загорались от обиды: никто их не принял...
И, когда проговорил он эти последние слова, вдруг стало ему ясно, что говорить больше не стоит, что старец ничего не знает, а так играет в блаженного, увертывается, виляет, лжет перед ним.
– Заповедь: убий! – вот она заповедь! – он встал и твердо заходил по келье, – за зло – тысячекратным злом... да, кровь, и если я не пролью крови, так мою прольют, да не только мою...
– Согрейте сердце! согрейте сердце! – простонал старец.
Гадок, омерзителен стал для Саши этот схимник, который схимой прикрыл прогнившие глаза; и чудился запах, он шел по келье, проникал через платье в кожу и сосал сердце. И так захотелось обидеть, уничтожить этого старого лгуна, прожившего все свои силы, и хотелось крикнуть в лицо самое тяжкое оскорбление, такую какую-нибудь обиду горькую, чтобы прожгла она всю эту показную святость заклинателя бесов. И, мысленно понося и издеваясь, он злорадствовал.
– Саша! – протянул старец дрожащие руки, – Саша!
Саша стиснул зубы от горечи, а сердце, сердце готово было...
В монастыре ударили к вечерне.
391
Вспомнилось Саше, что к четырем он должен поспеть, чтобы всех застать и навсегда уж покончить со всякими делами. Заторопился.
Одна мысль разрывала другую и, разорванные, они вновь бросались друг на дружку, и был ад криков в его душе.
И проклинал старца, себя и весь мир; он не сказал чего хотел и зачем пришел, зачем это все...
Не приняв благословения и не поцеловав руки, вышел из кельи.
Старец сполз с лестницы и долгим взором сердца глядел вослед ему, и губы что-то горько перебирали, – молился, и рука крестила – молился, и рука крестила неясно-дальнее, что наступало на человека.
XXIV
Непонятное одиночество давило Колю: сам себе представлялся он смертью, мыкающейся посреди всеобщего воскресения.
Так кругом и небо, и люди жили.
И, силясь не глядеть, он провожал всякий крик и всякое живое существо и думал, не разбирая дум, о чем-то жутком, что вот наступит, и тогда он погибнет.
Очнулся.
Увидел грязный знакомый трехэтажный дом с черной сплошь измелованной доской на воротах, позвонил.
Вышел дворник.
Коля стоял и смотрел, удивленный, смотрел на его рыжие засаленные усы и на мелкие потные рябины.
– Вам Машку? – спросил дворник.
– Машку!., да, да, вызови Машку.
Дожидался. Дожидаясь, разбирал фамилии жильцов. Одна фамилия застряла в мозгу. Машинально повторял ее.
– Плямка – Плямка – Плямка...
И, повторяя, осматривался, будто внезапно разбуженный, ничего уж не понимая.
Наконец, запыхавшаяся девушка в драповой кофточке сбежала с лестницы, и на исхудалом болезненном ее личике засветилась улыбка.
И она пошла за ним.
Как пчела, налетела эта проклятая «Плямка» и жужжала в мозгу.
– Куда вы? куда вы? – крикнула Машка.
392
Но он ничего не слыхал, ноги сами собой шли.
И они плутали из переулка в переулок, с улицы на улицу, пока не поравнялись с подвальной пивной.
Вошли в пивную.
Пивник – «Гарибальди» – лысый, в очках, с крошечной бородкой колышком, без усов и со скошенным на сторону носом, лукаво улыбнулся гостям.
В пивной было жарко.
Отдышавшиеся тяжелые мухи полусонно перелетали по стаканам.
И пиво казалось тягуче-приторным.
– Самую новейшую откупорил-с, – утешал «Гарибальди» какого-то оболваненного гостя, и при этом нехорошо улыбался.
А Коле казалось, это он над ним смеется, да и как не смеяться лысому: вчерашнюю-то ночь перед ним выворачивали...
Машка сидела одетая, конфузилась; из-под платка выбилась светлая прядь волос, а лицо закраснелось. Несколько раз порывалась она вытереть себе пот со лба, да платок забыла, а тяжелый драповый рукав шерстил.
Набирались гости, занимали липкие столики.
Пробки наперебой били.
– Не знаю, что делать, – нагнулся Коля к самому лицу девушки, – слышишь, уеду я, тяжело мне так сейчас, свету не вижу.
Машка ничего не сказала, испуганно захлопала покрасневшими глазами, а веки пухнуть стали, губы вздрогнули.
– С другими ходишь... да?
– Хожу, – едва слышно ответила и закрылась руками.
– И не захворала?
– Н-нет... еще...
– С кем?
– Да с вашими... с городовым... Сами вы виноваты, помните, как переехала я, написала письмо вам, а сама ночи не спала, все ждала вас. И измучилась вся, ждамши, думала, не увижу уж.
А вы и пришли вечером, поздно, и с вами этот длинный... Поняла я тогда сразу, чего хотите. И горько и обидно мне было, так бы всю грудь разорвала себе.
Коля сморщился.
– Уйду я, – сказал он сухим голосом.
– Бог с вами! – Машка сжалась, ушла вся в свою кофточку, только худенькое личико еще больше зарделось.
Подали свежую бутылку.
Коля наливал Машке и, не дожидаясь ее, пил.
Не смотрел на нее, не думал, ни о чем не думал.
393
– Плямка, – сказал кто-то, - ты и есть эта самая Плямка, паршивая...
Машка утерлась рукавом и залпом хватила стакан.
– Навсегда? – спросила она резко, будто перерожденная.
– Навсегда.
И он хотел сказать ей еще что-то, но мысли безалаберно мчались, и одна мысль била другую, а расплывающиеся звуки хмельных голосов сновали где-то так далеко...
А это «навсегда» выстукивало у ней в сердце, выстукивало твердо, без пощады.
Она не плакала, лицо состарилось, яркие красные пятна вспухли на щеках, а губы дрожали. Стояли глаза над пропастью, ужаснувшиеся. А это «навсегда» уж резало сердце, но крови не было, сухо резало.
Острая мысль о завтра рассекла ее с головы до ног, и стало ясно, что там ничего-то нет, ни единого самого малого светика.
Кофточка на ней затопорщилась, будто лопнул тугой неуклюжий футляр.
Машка вскочила, схватила порожний стакан и хряснула им прямо в лицо Коле.
И стакан, ударившись по губам, разлетелся вдребезги.
Коля видел лицо большое и страшное, оно мелькнуло на минуту перед ним, как шар-молния. Веки от боли захлопнулись.
Машка всем телом навалилась на него и била кулаком по глазам, по этим темным глазам, скрывающим всю жизнь ее, всю тоску, все – переболевшего сердца.
И жгло ему щеки и губы и, царапаясь, ползло по щекам, губам.
–Хо, хо, хо!
– Ой да бабенка!
Гоготали вокруг голоса, и огромные красные рты раздирались от хохота.
«Гарибальди» подошел к гуслям, поправил очки, улыбнулся, взмахнул рукой.
И запели гусли широкую заунывную песню, они пели, вили, – пелась песня, плакала...
– Мать-земля, я – сын твой, не покинь меня...
Коля вырвался из рук Машки и, размахнувшись, шваркнул ее оземь...
Медленно поднялась девушка, харкнула кровью и затихла.
Капали на стол капельки, горячие, горькие, и расплывались в пролитом пиве.
В монастыре ударили к вечерне.
394
– С-сукина манишка! – дубастил чей-то барабанный голос, разбивая песню.
– Та-та-та-бух! – стучали кулаками.
Капали капельки крови горячие, горькие...
– Мать-земля, я сын – твой, не покинь меня... – дрожала струна.
У нашего кабака
Была яма глубока.– задрал вдруг чей-то кумачный бабий голос.
Показалось Коле, что закрыты все двери, забиты совсем, навсегда, и выйти нельзя...
Навсегда.
А там внутри чья-то железная рука, защемив тугими железными пальцами сердце, выжимала кровь сердца.
Дух перехватило.
И, проскрипев что-то неясное странным, страшным зеленоватым голосом, он уткнулся в колени Машки и так застыл, весь дрожа и задыхаясь.
– Оставьте, неприлично-с тут... –- отстраняла девушка.
Как во этой-то во яме
Завелися крысы-мыши,
А крысиный господин
По канату выходил.– Кой черт, кобылья вонючка, посмел ты во гусли петь, а?
Государственными законными правами, слышь, лысый.
– Плямка-сволочь! !
– Лексеев, отступись... Лексеев...
– Уж сколько раз я зарекался... – тянул наперекор всяким звукам одинокий мутный голос, и чьи-то руки бултыхались в табачном дыму.
А едкая горечь, выползая из углов, ползла по полу и подползала к сердцу, впивалась и отпивалась...
Какие-то голые уроды, киша под лавками, вдруг выскакивали к столам и, взявшись за руки, вертелись в ужасном хороводе.
И хоровод рос, сползался, сливался, – прыгал, прыгал, – взлетал под потолок огромным грузным телом, расплывался по полу тягучим тухлым тестом, – прыгал, прыгал, – и, закрутившись зубастым винтом, вертелся – не хоровод, не тело, а тошнотворная, гадкая...
395
– Колюшка, голубчик, дай помогу... вот так...
– Плямка...
«Гарибальди» улыбался.
XXV
Коля глубоко дышал, вдыхая теплоту вечернюю.
Веял вечер весенний, голубыми воздухами любовно пеленал красную землю.
Тысячи толкачиков толклись, теребя долгий ласковый луч, уходящий, засыпающий на ночь.
Коля дошел до монастыря и повернул на широкую улицу с чахлым, теперь нарядным, бульваром и медленно пошел по боковой аллее, хоронясь и надвигая на глаза шляпу.
Щеки саднило, а прикушенный язык то и дело лизал кусочек отсеченной, мешающей губы.
Спина и ноги ныли, и голова тяжелела, будто он нес на плечах тяжелый пуд.
Он перед кем-то оправдывался и, оправдываясь, залезал в такие дебри, откуда выхода уж никакого не было... Травил себя, потому что и в пивной, и когда прощался с Машкой, лгал, лгал и себе, лгал и ей...
– Я уйду.
Оборвались мысли.
Вышел на главную, но, и шагу не сделав, повернул в сторону.
Прямо навстречу шел Алексей Алексеевич.
Очень неловко стало, хватился застегиваться, но неровно пришитая пуговица только отдула полу, бросил пуговицу. Да и поздно.
Поравнялись.
Взглянули друг на друга. Не поздоровались.
Пошли рядом.
– Что случилось? – испугался Коля: вид у Алексея Алексеевича показался ему донельзя странным, руки болтались, как плети.
Но тот ничего не ответил.
Так шли они молча, не глядя друг на друга, и не расходились, словно кто-то третий шел с ними, сковывая своими руками их руки.
– Сергей – брат зарезался, – проговорил вдруг Алексей Алексеевич и улыбнулся, – в отхожем месте перочинным ножичком.
396
Коля оступился.
Что-то хотел сказать, но слова захрясли, все холодные, как ледяшки.
– Крови так пустяки, – на ладошке унесешь.. – продолжал спутник и, согнув руку совочком, понес ее перед собой, не разжимая пальцев.
И опять пошли молча. Шли неровно, то торопясь, то замедляя.
От моста бежать пустились.
Все нарастающая вода клокотала, подплывала Синичка к пруду..
Мелькнул красный забор.
– Почему это ворота отворены? – крикнуло что-то и кошкой царапалось в сердце.
Добежали до дому.
На сыром дворе перекрестные следы от колес.
Вломились на черный ход.
Голос Пети каплей долбил.
– Известное дело, из тюрьмы в крепость... – обдал Прометей.
На кухонном столе горой подымались подушки и одеяло Саши.
– Братца вашего, так ей-Богу, один грех на Пасху... – виновато обернулся к Коле городовой Максимчук.
– Ваша милость, никто другой! – ворчала Эрих, поводя носом и косясь почему-то на Прометея, – всех вас повесить мало.
– Сгноят, известное дело... – отплевывался от папироски Прометей, и вдруг, засучив руки, заорал во все горло: – шпульники вы проклятые, доберутся до вас, доберутся до окаянных, просить будете, н-нет, не будет пощады, шилом пупок проколют, выворотят брюхо...
– Я тебе говорю, чтобы ты подушку сейчас же отправил, я тебе говорю... – приказывал Петя городовому, уши у него страшно горели.
Лисенок, собачка Саши, заглядывая в глаза, служил, а глаза плакали этими невыносимыми слезами, молча.
И, насторожив уши, взволнованно слушал кургузый Розик.
Коля принялся расспрашивать, но никакого толку не мог добиться: говорили все зараз, кричали, и одно понял: какой-нибудь час назад вернулся Саша, и его взяли...
Женя ходил из угла в угол, – бровь у него дергалась:
– Черт знает что – черти...
Прасковья плакала:
397
– Сашечка... Сашечка... Светло Христово Воскресение... мамаша-то, кабы знала, девушка, мамаша-то видит все... Сашечка, яко разбойник...
– Маво сызнова по статье законов... Филиппок-то говорит мне: мамынька...
– Я тебе говорю, чтобы ты сейчас же нес, слышишь...
– Мамынька, сердечная...
– Дерьмо ты, шпульник, черт...
– Перочинным ножичком... крови так пустяки – на ладошке унесешь...
Коля бросился из дому, через двор, за ворота, на улицу; что-то гнало идти, идти без оглядки куда глаза глядят.
Чувствовал, как ноги несут куда-то, и слышал все, не проронил ни одного звука; шумела тревожно жизнь, и слышал каждую жизнь.
Свистки на железной дороге и звон часов, и дребезжание пролеток, и гул отдаленных колоколов были не как всегда, не как всякий день.
Все вокруг навязчиво лезло, что-то пряча, что-то скрывая, отнимая, отщипывая кусок за куском.
На запотевших окнах какого-то освещенного дома, под едва слышную музыку, прыгали тени.
Остановился.
– Тут веселятся, – подумал, – они не знают. Они не знают.
Тени, прыгая, зачертили страшные слова.
Он видел ясно: люди плясали, а тени их плакали.
Вдруг стрекозами выпорхнули одна за другой все до единой мысли скучились, зацепились, и упал нож огромный, острый я рассек их...
Глухая тоска безответно, тупо хлынула, как кровь из глубокой смертельной раны.
Если бы можно было сразу выкрикнуть всю эту боль невыносимую, задавить в себе эту тоску... Бежал, куда глаза глядят, не чувствовал под собой ног.
Цапаясь, падая, вскарабкался на монастырскую гору.
Но сил больше не стало, повалился на землю, на холодную траву.
Тоска не отхлынула, наводняла тоска пустое сердце.
Меркло зеленоватое затихшее небо. Зеленый месяц тихо взбирался на ограду вверх к колокольне.
Гудела, плескалась высоко поднявшаяся река, гудела, ворчала, выводила одно и то же, одно и то же.
398
Поднявшиеся слезы теснили грудь, душили горло; что-то холодное царапало ссадины, врезалось в мясо.
Закусил от крика землю.
– И – себе, и им – и себе, и им! – разрывалось сердце, черно-синее сердце, и кровь вскипала, и каждая капля крови, испаряясь, ложилась иглой на сердце, и их было тысячи тысяч, и каждая колола сердце...
И, чернея от боли, сердце мстило:
– И себе, и им – и себе, и им!
Громоздились плахи за плахами, щелкали пытки страшными зубами...
Сгорбившись, прошел Алексей Алексеевич, неся перед собой согнутую «совочком» темную руку, зеленый, улыбаясь...
Коля поднялся на руки, минуту каменея так от блеснувшей ужасной мысли: догнать и...
Вдруг со страшной высоты грохнулись на него тысячи колоколов и, придавив к земле, расплющили мозг.
– Дуу-доон! – Дуу-доон! – били часы, и каждый выбиваемый час бил по обнаженному.
Медленно поднялся Коля с земли.
Окутала мир страшная тишина: река не бурлила, не росла трава, и часы не ходили.
Медленно пошел к ограде, к башенке.
Плакало сердце, тихо, как плачут одинокие, у которых отнимают последнее, как плачут оклеветанные, как плачут бессильные перед тем, что кто-то крутит и вертит миром и не слышит и слышать не хочет...
Каменная лягушка шевелила безобразными перепончатыми лапами.
Вздувалось ее белое брюхо.
И он вспрыгнул на ее живую спину и, обняв полукруг башенки, ударился.
Град белых острых искр, взорвав тьму, разлился в глазах.
И с безумной радостью он бился лбом, бился крепко, больно, больно, больно...
Казалось ему, прощается он со светом, надругавшимся над ним, над его детским сердцем, прощается со светом, искровянившим его тело, исполосовавшим всю его душу, прощается с теми, кого так крепко... кого не любил вовсе, и просит простить и бьет, бьет, бьет себя за слезы их...
399
И раскрывалась под ним изъеденная красная пасть лягушки и короста, шелуха слетали с лягушачьего лица, и окрылялся камень... Вот взовьется...
Встревоженные стрижи закрестились крылами, зазвенели, перенося молитвы тихие.
И вспомнился старец.
Красный огонек теплился в окне башенки.
А над ней улыбался месяц искаженно-зеленой улыбкой.
Коля отступил на шаг, отступил и, пораженный, остановился.
Окаменел весь.
Смотрел пристально, смотрел долго-долго.
Припоминал...
Вдруг перехватило дыхание.
Он быстро нагнулся, пошарил по земле, нащупал голыш... вздрогнул кровавой дрожью, прицелился, развернулся...
И камень свистнул.
Жалобный стон прозвякнул в окошке.
Раскатился.
Огонек метнулся.
Затрепетал.
Огонек заплакал.
– Ха, ха!
И загас.
Ночь.
В доме Огорелышевых отдавалось приказание, чтобы духу Финогеновых не было на дворе.
– Тебя еще заберут...
И люди шли исполнять приказание.
А Бес, неприкрашенный, худой, сидел на гвозде затопленного забора, отделявшего Синичку от пруда, и, курлыкая, грыз копыто, голодный Бес, испачканный плевками, кровью, а людям, таким жалким и доверчивым, казалось: это половодье гремит, волны ворчат...
400
| Главная | Содержание | Далее |
Комментарии
Вторая редакция (1907)
С. 304. ...окончившего... немецкий пансион... – Ср. у Ремизова о Н. А. Найденове: «Он окончил немецкую школу Петер-Пауль-Шуле, для московских обруселых немцев, куда поступали и природные русские дети купцов» (Иверень. С. 40). ↑
С. 312. ...к Василию Егоровичу можно и не ходить... – Ср.: «С пяти лет начав грамоту у Грузинского дьякона Василия Егорыча Кудрявцева, семи лет я поступил в 4-ю гимназию» (Подстриженными глазами. С. 169; см. также с. 32, 36). ↑
С. 314. «Ах, попалась, птичка, стой...» – начало стих. А. А. Пчельниковой «Птичка» (1859). ↑
«Что ты спишь, мужичок...» – начальная строка стих. А. В. Кольцова (1839). ↑
С. 315. Капля дождевая ∞ Громко так стучим? – начальное четверостишие стих. А. Н. Плещеева «Капля дождевая» (1860, перевод из М. Гартмана). ↑
С. 330. Русско-турецкая война – война 1877–1878 гг. за освобождение народов Болгарии от турецкого ига. ↑
С. 342. Хобот – эвфемизм, иносказание, значение которого выясняется из содержания главки «X. (Хобот)» в автобиографическом повествовании Ремизова «Кукха. Розановы письма» (см.: Ремизов А. Кукха: Розановы письма. [Берлин], 1923. С. 89–90). Соответственно «"Слоны" – это "обладающие сверх божеской меры"» (Там же. С. 35). ↑
С. 357. Шаховцов – в кн. «Подстриженными глазами» дважды упоминается протодьякон кремлевского Успенского собора Шаховцов, обладатель мощного баса (см. с. 273, 279). ↑
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) – генерал от инфантерии, популярный герой туркестанских походов и русско-турецкой войны 1877 1878 гг. ↑
С. 359. ...ударили к Страстям... – зазвонили к Страстной службе. ↑
С. 373.– Каман са вал... Мирсити ... – искаженные comment çа va и merci. ↑
С. 391. ...ушла блудница непорочною... – Имеется в виду известный евангельский эпизод (см.: Ин. 8: 3–11). ↑
...рече ему: ты глаголеши. – Цитата из Евангелия (Мф. 27:11). ↑
_______________________________________
С. 397. Лисенок, собачка Саши ∞ служил... – В этой связи см. следующие отрывки из писем жене от 18 и 24 июня 1904 г.: «Взял нарисованные <старшим братом> Николаем портреты: Действующие лица "Пруда" – Прометей, о. Гавриил (в "позе": "ты меня не объел!"), Эрих, Прасковья, Сергей, своих 2 приготовишкой»; «И опять к переплетчику: отдам рисунки Николая, где Сергей, я, Лисик (собака), Эрих, Прасковья, о. Гавриил, Пруд» (На вечерней заре 2. С. 263, 267). См. также – в письме жене от 28 июня 1904 г.: «Я вспомнил собачонку <sic!> Лисику с перешибленной задней лапкой. И забыв о старике со свечой <sic!>, стал думать о этой собачке.
И прожил какой-то отчаянный час, надрываясь от бессилия не дать этому давно "пропавшему" Лисику мучиться» (Там же. С. 274). ↑
С. 399. ...бился лбом, бился крепко, больно, больно, больно... – Очевидная философема-отсылка к иррационалистическим построениям Льва Шестова. В этой связи см. следующее: «Шестов настаивает на неискоренимом трагизме человеческого существования, адекватной формой восприятия которого становится битье головой об стену. Одновременно познание трагизма приводит к переоценке ценностей, нарушается равновесие между миром и человеком, человек ставит себя над миром <...>. Таким образом, трагизм обостряет не только отчаяние, но и эгоизм, и "мораль трагедии" характеризуется движением человека "от гуманности к жестокости"» (Ерофеев Вик. «Остается одно: произвол» (Философия одиночества и литературно-эстетическое кредо Льва Шестова // Вопросы литературы. 1975. № 10. С. 172). В печатной редакции «Пруда» 1911 г. эта отсылка завуалирована. ↑
С. 400. Эх, ты, гордый человек! – Намек на монолог Сатина в пьесе А. М. Горького «На дне» (1902). ↑
_______________________________________
| Главная | Содержание | Далее |