![]()
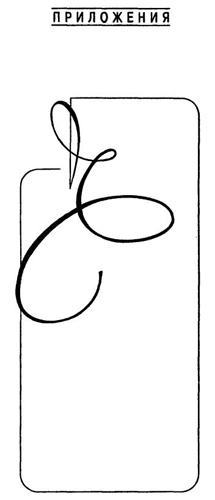
После Михаила Аверьяныча осталась мне бумажная память – его старый дневник. Давно я его получил, а вспомнил только теперь – не скрою, распродаю я сокровищницу мою татарам, вот и схватился.
Вынул, взглянул я на тетрадь и позабытое поплыло передо мной и с чего-то невеселое, и сам я не знаю, с чего?
Расставаться ли не хочется или оттого, что вспомнилась моя пора недумная или старец младенный на такое навел?
Михаил Аверьяныч от красного носу до козлиной бороды и длинных верховских волос являл собой облик духовный.
И точно, происходил он от благочестивого кореня.
Отец Аверьян – родитель был сельский священник и, хоть на службе не п р о и з о ш е л, а все-таки запашку держал в сто шестьдесят десятин, да до тридцати лошадей стояло у него на конюшне, а по лесу так прямо цензовик, и лисий лик его часто украшал наши земские собрания.
А рядом с маленьким батюшкой можно было видеть на этих собраниях долговязого верзилу в очках – протодьякона, наряженного в судейский сюртук! – нашего достопочтенного Михаила Аверьяныча.
Всю судебную премудрость превзошел Михаил Аверьяныч.
Был он следователем в нашем уезде и, отличаясь отменной ретивостью, – такого мнения держалось начальство, – радовал прокурорское сердце непременным желанием во что бы то ни стало заточить.
И когда, случалось, прошибался, так уж прокуроры во всю большую дорогу вплоть до Палаты вызволяли служаку – – до следующего ошибочного заточения.
Но одно скажу, нет, не от слепой ретивости и не от исступленности сердца шла такая жестокая линия его и, если хотите, даже совсем наоборот, – ведь, сами судите, раз обви-
569
новатить никого нельзя, то само собой всякого и обвинить можно, а обвинив, заточить.
А эти вечные заточения сулили одни неприятности.
Особенно был неприятный случай, когда посадил он в острог свидетеля I-ой гильдии купца Ивана Гусева вместо Еремея Гусева, потому что записав на бумажке имя обвиняемого Иеремия, впопыхах не разобрал и прочел – Иоанн.
Прокормив двое суток осторожного клопа, выпущенный первогильдеец нанял адвоката Капустникова, а этот Капустников постарался и немало в Палате испортил крови Аверьянычу.
А случилось это в то время, когда жена Михаила Аверьяныча Марья Васильевна, рожденная Параклитова, лежала уж третий год без ног, наблюдая с одра своего за мужем во всех его действиях и служебных и домашних – чего уж греха таить: Михаил Аверьяныч, кроме всего прочего, очень уважал по старой память коньяк.
Марья Васильевна от недуга ли своего кандального или уж по природе душевной отличалась такой подозрительностью, что даже и вообразить себе невозможно: она ревновала мужа не только к свидетельницам, на что еще бывал повод, но и без всякого повода, – ко всякому существу одушевленному.
Стоило Михаилу Аверьянычу засидеться у того же кандидата Виноградова, безобиднейшего и скромнейшего, за беспорочие свое, как говорилось, доступного даже в общие женские бани, все равно участь ждала его та же, как если бы вернулся он из кабака или еще откуда.
Марья Васильевна, трогая двумя холодными пальцами нос мужа, требовала, чтобы дохнул. И пусть водки и намека нет, один табак и чай, зато нос горяч.
И начиналось медленное пиление по способу великомученскому, описанному в Четьях-Минеях.
Мужественно переносил Михаил Аверьяныч, всегда и во всем винясь и ничему не переча. Но зато потом, оставшись глаз-на-глаз с одной тоскующей ночью, отплачивал он со всем зверством, свойственным лишь человеку с добродушием звериным.
– Вот я тебя, мерзавец, потушу! – опрокидывал он свой неиссякаемый коньячный шкалик, укромно хранимый в шкафчике письменного стола.
Михаил Аверьяныч совмещал в себе все качества, какими наградил Творец свою тварь от звероподобного человека до скота очеловеченного, и среди всего, что живет, дышит и растет, был он сам по себе и в мыслях, и в делах, и в решениях.
570
И в допросах были у Михаила Аверьяныча собственные приемы, только его. И он говорил, что эти приемы перейдут в практику под именем михайловских.
Он с поднятыми кулаками бросался на старух свидетельниц, которые, на все соглашаясь, разбегались, куда попало от грозы несносной. Других изводил он убеждениями – и невиновный, разбередив в себе застарелые вины, отыскивал вину и во всем признавался, лишь бы отвязаться. Третьих донимал он напускною скорбью и так ныл и клянчил, что уж из простой жалости, что угодно возьмешь на себя, и подпишешься.
В довершение всех дел своих самоуправных смешивал он категории свидетелей и выходили такие казусы, от которых только хохот стоял, как в самом смешном театре.
Кандидаты, изнывавшие от однообразия судейской жизни, оживали не на час и не на день, а на целые месяцы. А Михаил Аверьяныч, окончательно теряя с годами всякую общую меру и утверждаясь в своем михайловском, зарывался не на какую стать, и все чаще случались неприятности и куда почище, чем с его огульным заточением.
Предостеречь, вовремя остановить или боялись или просто не хотели: всякому хотелось чем-нибудь поразвлечься и как-нибудь скрасить уездный судейский пропад.
А мне чего-то бывало жалко и при всей своей неопытности, но с недумной уверенностью я вступал со стариком в самые резкие споры, доказывая прямо противоположное, и нередко брал верх, и тем самым отводил беду неминучую.
И старик искренно привязался ко мне и пошла у нас закадычная дружба.
За два года до смерти Михаила Аверьяныча померла Марья Васильевна, уязвив его в последний раз, будто ждет он ее смерти затем только, чтобы жениться на Полашке, неряшливой соседской кухарке.
На это Михаил Аверьяныч, во всем другом признававшийся, тут в первый раз не выдержал.
– Видит Бог! – сказал он и, похолодев, трясущийся вышел.
Чернющая тоска, как волчком, завертела им.
– Держу папироску и спичку в руках и вижу лампадка. И словно кто шепчет: прикури! И так толкнуло. Я и прикурил, – рассказывал мне Михаил Аверьяныч час спустя, когда я заглянул к нему проведать, – как вы думаете, что это значит?
А я тогда по недумности моей уверенной –
– Несомненно, – говорю, – знамение: не иначе, как смерть близкого человека.
571
– Значит – – и он не окончил, не то от страха, не то словно обрадовался чему-то, что и досказать стало страшно.
Мне не раз в разговорах с Михаилом Аверьянычем приходилось выдумывать самые разнообразные толкования и снам и приметам, и говорил я так, не очень веря, а потому не очень, что кто ж это знает?
– Так бы уж поскорее! – договорил он вслух свою мысль и полез к шкафчику.
Признаюсь, я ничего не понял.
Я понял наутро, когда услышал торжественный рассказ, как ночью действительно скончалась Марья Васильевна.
– Успокоил Господь ее пролежни! – закончил Михаил Аверьяныч и истово перекрестился.
Успокоил Господь и самого Михаила Аверьяныча, но уж без всяких знамений, впрочем, и являть-то некому было, ведь, кроме меня, ни души.
А помер старик за рюмкой коньяку над раскрытой книгой Добротолюбия.
Незадолго до смерти подарил мне Михаил Аверьяныч четыре тетради своих дневников, но с зароком: ничего не опубликовывать до смерти.
По его словам в этих дневниках немало заключалось вещей достопримечательных.
«Одних сбывшихся снов семьсот семьдесят семь, водных чудес тридцать и три, спиртных десять, а казусных больше тысячи».
Увы! Всего одна-единственная тетрадь сохранилась, другие же все забрал Иван Михайлович, сын Михаила Аверьяныча, учитель, приехавший внезапно из Петербурга на похороны отца.
Да и эту единственную тетрадь, обезвредив, оставил у меня только потому, что в ней нет ничего занимательного – ни снов, ни чудес, ни курбетов. От последних и самых зарочных – их особенно выискивал учитель, – каким-то чудом уцелело в моей тетради всего несколько строчек. Но и по этим курбетным строчкам живо встает в памяти младенный старец.
«27 мая в 37-ой раз был в Столбах, посещая рыжую (стерто), и опять благополучно. Но испугался: на губе прыщик. Сей день пришло успокоение и возблагодарил Всевышнего. Здрав и невридим».
«В тот же раз забыл штаны свои в оных Столбах и в 11-ть часов дня при светлом солнце возвратился для отыскания п о р т к о в, будучи осмеян всеми блудницами. Причем от волнения хмель испарился из безумной главы моей».
572